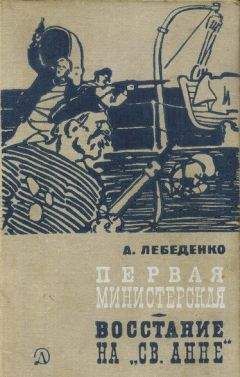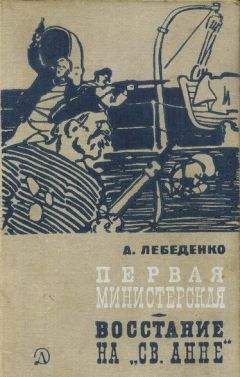В гимназии по-прежнему не полагалось говорить о политике. За разговоры о 9 Января, о забастовках, баррикадах можно было «получить документы».
Старшеклассники собирались на квартирах товарищей и за городом и без конца говорили на политические темы. Малыши с тревогой и острым любопытством прислушивались к разговорам старших, чувствуя, что вокруг творится что-то необычайное, но все еще не улавливая истинного смысла и размаха событий.
Старик Алфеев, получив обратно Бокля, долго искал на полках, что бы такое еще дать гимназистам.
— Может быть, Спенсера? Нет… Рано еще… — отвечал он сам себе. — Дарвина вам нельзя… — концом желтого пальца он почесал огромную шишку, которая украшала его сухое, старчески-блеклое лицо.
— А почему нельзя Дарвина? Имя Дарвина нередко употребляют в разговорах старшие. Ведь Дарвина надо читать.
— Для чтения учеников гимназии не рекомендован… К тому же — он труден. Вот разве Геккеля «Мировые загадки»? Это ученик Дарвина.
— Мировые загадки! — затаив дыхание, воскликнули одновременно Андрей и Ливанов. — Милый Иннокентий Порфирьевич! Это, наверное, очень интересно. Дайте «Мировые загадки». Пожалуйста, дайте!
«Мировые загадки» едва не стали причиной провала Андрея и Ливанова по латинскому языку. Перед ними раскрывалось таинственное небо. Умный старик говорил о красоте водорослей, уничтожающе смеялся над легендами церкви. Величие воинствующей науки захватывало дух, наполняло молодые сердца ненавистью ко всему отжившему, ветхому и отгнивающему. И несколько обязательных экзерцисов так и не были проделаны читателями «Загадок».
«Мировые загадки» совершали ежедневные путешествия на кладбище вместе с латинскими учебниками, но строки Цезаря казались поблекшими травами на забытых могилах, как только раскрывалась первая страница «Загадок».
— Какие, оказывается, есть книги! — говорил Андрей. — А мы, как идиоты, изучаем эти паршивые аблативусы абсолютусы, законы божьи с дурацкими текстами и идиотским писанием.
И, подражая шепелявому голосу псаломщика, он нараспев затянул:
Господи, скую отрыгнул мя еси…
Глаза мальчика разгорелись. Он топнул ногою и запустил латинской грамматикой в ограду ближайшей могилы.
— Что ты разошелся? — успокаивал его Ливанов. — Латинская грамматика не виновата… А я убежден, что есть еще и не такие книги. Неужели ты до сих пор не понял? Ведь нас учат вовсе не тому, что нам действительно понадобится в жизни.
— Так за каким же чертом мы ходим в эту гимназию? Кому это нужно?
— А аттестат зрелости?! Без аттестата не попадешь в университет. А без университета не дадут службы. Если бы я был богатым, я бы ни за что не учился в гимназии. Я бы поехал за границу и там учился бы у лучших профессоров.
— Но кому это нужно, я не понимаю? Кому нужно, чтобы люди выходили неграмотными, глупыми, необразованными?
— Не знаю… Должно быть, от нашей некультурности… Говорят, за границей совсем другая школа…
— Как другая? — возразил Андрей. — Женька Керн рассказывал, что в Германии точно так же учат и закон божий, и латинскую грамматику. А для женщин высшего образования совсем нет. Женское высшее образование, говорят, лучше всего поставлено в России и в Америке.
— Может быть, Женька плохо знает?
— Не думаю… Знаешь, Ливанчик, я как подумаю о нашей гимназии, так меня тоска охватывает. На уроках истории, географии я еще иногда слушаю. А остальные уроки!.. Я больше под партой читаю.
— А ты думаешь, по истории нам говорят все, что нужно? Вот я, например, хорошо знаю, что Павла Первого задушили, что Петра Третьего убили, что Николай Первый отравился. А у Елпатьевского написано: «В бозе почили». А вот возьми крымскую войну или русско-турецкую. Разве по Елпатьевскому разберешь — кто победил, почему победил? Выходит, что русские всегда побеждали. А на самом деле в девятнадцатом веке нас били и били и вот сейчас бьют, а в истории, наверное, напишут, что мы и японцев разбили. Я тоже люблю историю, но иногда хочется бросить все это и не читать, и не учиться. Все равно не знаешь, где вранье, где правда.
Дарвина Алфеев так и не дал гимназистам. Но затрепанные томики Дарвина оказались в частной библиотеке Сагаловича.
Сагалович, разорившийся книжный торговец, брал втрое дороже городской библиотеки, но у него среди трехсот-четырехсот книжонок ходких писателей попадались и запрещенные книги. Своим таинственным видом он повышал цену этой полулегальной литературе. Здесь не было ни Горького, ни Короленки, ни Чехова, ни Толстого. Истрепанные томики Рокамболя, Поль де Кока, Крестовского составляли ядро библиотеки. Среди них, как острова в океане, плавало несколько книг, спрашиваемых молодежью другого порядка.
Перелистав каталог — замусленную трехкопеечную тетрадь в синей папке, Андрей сказал:
— А почему у вас, господин Сагалович, нет серьезной литературы?
— Серьезной литературы? — сделал удивленное лицо Сагалович. — Что значит серьезной? Здесь все книги серьезные. Огромный спрос. А вот вы же нашли Дарвина?
— А что есть, кроме Дарвина?
— Ну, мало ли что есть! А что вам нужно?
— Политические книги у вас есть?
— А где теперь нет политических книг? И у меня есть.
— Разве? — обрадовался Андрей. — А вы нам дадите?
— А вот я посмотрю… когда вы принесете Дарвина… Тогда, может быть, и дам.
Через неделю Андрей и Ливанов получили «политическую книгу». Это была «История государства Российского» некоего Шишко.
Книжка была проглочена в один вечер. Наивные откровения этой «Истории государства Российского» только подзадорили гимназистов.
— А еще, господин Сагалович? У вас, вероятно, есть еще что-нибудь?
— Ну конечно, есть… Если вы дадите слово, что быстро вернете книжку и никому больше не покажете, я вам дам.
Сагалович вышел из-за прилавка на улицу, посмотрел по сторонам и из какого-то пыльного ящика достал сравнительно новую, еще не затрепанную книжку.
— Ну вот, читайте.
Андрей раскрыл первую страницу.
— Карл Маркс, — прочел он вслух, — «Капитал в изложении Карла Каутского».
— Тише, тише, — сказал Сагалович. — Зачем вслух? Возьмите себе домой и там читайте, сколько влезет. Теперь эту книжку все читают. Весь ваш седьмой класс прочел.
Андрею показалось, что он несет с собою волшебную шкатулку, которую стоит только открыть — и оттуда посыплются чудеса, подобные чудесам «Тысячи и одной ночи».
— Это, вероятно, настоящая политика! — говорил он Ливанову. — Будем опять читать вместе. Черт с ними, с экзаменами! Осталась уже самая ерунда. История, география… Можно жарить без подготовки.
— Может быть, пригласить еще кого-нибудь читать совместно?
— Вот тебе на! Мы же обещали Сагаловичу никому не говорить о книге.
— Все-таки, я думаю, что Мишку Гайсинского следовало бы позвать. Его незачем бояться.
— Раз дали слово, надо сдержать.
Решено было читать Карла Маркса вдвоем на кладбище и в комнате Андрея так, чтобы никто не увидел книги.
Отец Андрея, удивленный необычайной усидчивостью сына перед легким экзаменом по истории, как-то вошел в комнату и спросил:
— Ты же хорошо знаешь историю. Что ты зубришь?
— История — такой предмет, который чем больше учишь, тем больше хочется знать, — многозначительно ответил Андрей.
Мартын Федорович недоуменно пожал плечами и удалился в свой кабинет.
— Доигрались, сволочи! — злобно буркнул Мартын Федорович и плюхнулся в кресло, тяжелым троном стоявшее у накрытого стола.
— А что, папа… в чем дело? — спросил Андрей.
Но Мартын Федорович не ответил. Он поставил, чего с ним никогда не случалось, локти на стол, голову опустил в раскрытые ладони, смотрел в дальний угол и говорил вполголоса, про себя:
— Какой позор, какой позор! Никогда в истории… ничего подобного…
Смятый газетный лист упал на пол с колен Мартына Федоровича.
Единственный гость за столом, уездный священник — отец Василий Кащевский, посмотрел непонимающе на Кострова, крякнул и потянулся волосатой ручищей к запотевшему графинчику. Не встретив поощряющего жеста хозяина, он отдернул руку и забарабанил тупыми пальцами по столу.
Мартын Федорович продолжал сидеть недвижно, Матильда Германовна, поднявшая было крышку у суповой вазы, опять осторожно опустила ее на место. Сложив руки, она выжидающе смотрела в глаза Мартыну Федоровичу. Струя пара расплывалась над столом в легкое облачко и щекотала обоняние проголодавшихся детей. Сергей нетерпеливо царапал ногтем накрахмаленную скатерть.
Отец Василий кончил стучать пальцами, а Мартын Федорович все еще сидел недвижно. Глаза его потемнели, большой близорукий зрачок стал мутным. Это было заметно даже сквозь дымчатые стекла золотых очков. Плечи опустились, и витые эполеты обвисли.