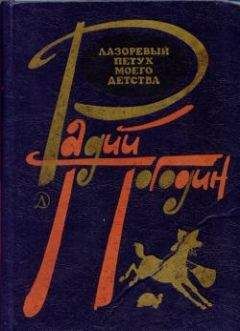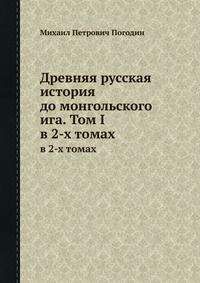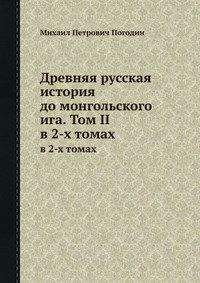Думает старик: «Любовь – сила сильная, сильнее всех сил. А мне что? Мы, старики да старухи, бесполые. Любая старуха старику любому может в беде штаны расстегнуть. И у ребятишек-малолеток такое же, но и не такое, поди. Они друзья сразу и до самых глубин. Улыбнутся друг другу, и сразу все друг про дружку знают. Могут рядом сидеть на горшках и целоваться, вот она – весна, это и есть суть весны. А мы, старики, уже над весной и над осенью. Наше дело – жалеть».
Бегут стариковы мысли врасхлест, несуразно. Жалеет старик Володьку ушедшего. Жалеет бабку Веру – куда там, так надсадилась. «Да придет твой Володька. Я думаю, приедет на танке с красной звездой, он таковский. На танке приедет вместе с красноармейцами».
Дед Савельев думает о березах – небось почки уже прозрели, они как котята, только душистее.
О журавлях думает старик – небось пляшут.
Журавли и березы. А что в них, в березах? Дерево сорное, идет оно на дешевую мебель да на фанеру, а какой хороший плотник вяжется с фанерой – фанера не плотницкий материал. Из березы дрова хорошие, и то дуб да ольха жарче. Журавль, поразмыслить, птица вроде тоже никчемная – и не охотничья, и не певчая.
Дышит весна старику в лицо, ласкается к нему, словно дочка. Думает старик. Березы небось зарумянились, вот-вот брызнут в небо зеленой песней. Журавли танцуют – небось взбаламутили все болото, всех оживили, насмешили, растрогали.
Бегут слезы по стариковым щекам, как ручьи по весенней земле.
Бегут ручьи по весенней земле, наполняются голубой водой овражки и речки, болота разливаются озерами светлыми. Синь-пересинь… Вода поет. Птицы поют.
Журавли на болоте пошли плясать. Они подпрыгивали, согнув крылья лоханкой, легонько задевали друг друга и поворачивались. Скрещивали шеи, как шпаги. В криках их была радость и горечь, призыв и ответ и что-то еще театрально-воинственное. Этот танец, где каждый – герой, где каждый сражен и оплакан, где сердце танцора попеременно испытывает и тоску поражения, и гордость победы, и увенчанное любовью счастье, прерывался на какое-то время грохотом настоящей войны, где страсти не так классически чисты, где ужас мертвеющих глаз сверх меры реален. Переждав, в пугливом оцепенении журавли начинали свой танец снова – свой ритуальный весенний бой, свою молитву великому богу рождения. Смышленые, недавно проснувшиеся лягушки сидели на кочках, таращили любопытные глаза на танцующих, слизывали с воздуха обильно ожившую мошкару, как театральные зрители слизывают шоколадку во время трагедии, замирая от ужаса, только лишь для того, чтобы через мгновение шоколад показался им еще слаще.
И кланялись журавли, как артисты.
Володька подавал Кузьме обоймы, вытаскивая их из картонных коробочек с немецкой надписью.
– И патроны у них в бумаге. Нельзя их было, что ли, в ящик просто насыпать, как гвозди?
– Нельзя, – сказал Кузьма, – побьются, заклинивать будут.
Кузьма сидел в одной рубахе и босиком, завязки кальсон неаккуратно болтались из-под штанин, от этого вид у него был как бы сонный. Когда он стрелял, пальцы у него на ноге поджимались. Уже и десятого и пятнадцатого повалил он.
Володька горел радостью. Грыз пустую картонную коробочку. С каждым выстрелом ему казалось – все ближе и ближе Красная Армия. Мысли в его голове складывались прекрасными праздничными гирляндами. Он уже твердо знал, что дядя Кузьма не полицай вовсе, а переодетый партизан-разведчик, бесстрашный стрелок и красный командир. Одна лишь досада: нужно в другую сторону палить – немцам наперерез, чтобы знали они: здесь, в Засекине, сидит гордая красная сила. Володька был бы не прочь вывесить на колокольне флаг: увидя его, как Володьке казалось, немцы совсем падут духом и сдадутся все разом. Этих мыслей своих он Кузьме не раскрыл, но спросил все же:
– Дядя Кузьма, почему ты туда стреляешь? Ты туда стреляй – немцам наперерез.
Кузьма переползал от проема к проему, осторожно выглядывал вниз, в село. Немцы текли по центральной улице, находя там и короткий отдых, и воду для пересохшего, раздраженного пылью и отступлением горла. Вокруг церкви было пустынно, она как бы стояла в стороне от войны.
– Туда нельзя стрелять, – сказал Кузьма. – Я же объяснял: кто по убитому беспокоится? Тот, кто рядом, потому что он о себе беспокоится. Возвращаться в село он не станет, потому что обратно к фронту идти, а ему страх как обратно не хочется. У него есть возможность от фронта идти, он и идет, перешагнет убитого и пойдет дальше, благо живой. Погрустит, конечно, даже пальнет, но чтобы обратно – ни-ни, не та ситуация: устал немец, притупился. А если я в тех стрелять стану, которые сюда идут, так они сюда и придут. А как придут, искать станут кого?
– Нас, – сказал Володька.
Кузьма вздохнул, почесал грудь под рубашкой. «Плечи-то тоньше коленок, – подумал он. – А шея что твой мизинец. Вот ведь пичуга, а тоже летит против ветра – борется». Он поднял с соломы свой пиджак, накинул его Володьке на плечи, и, когда накинул, пальцы его задержались на Володькиных тонких плечах.
Война – проклятье роковое для всех людей.
Не потому, что умирают,
А потому что убивают своих невиденных друзей.
Эти стихи сочинил фельдшер засекинский. Образованный человек и старый.
– Немцев убивают, – сказал Володька. («Если бы он мне дал из винтовки пальнуть, хоть бы по одному немцу».)
– Ну и немцы – люди, – сказал Кузьма. – Хорошие стихи нужно толковать. Если бы немец не полез, Россия с ним дружить могла. Я их, к примеру, сколько сегодня побил, а может, среди них и хорошие люди – мои невиденные друзья. Может, если при другой ситуации мне с ними встретиться, то и выпили бы, и поговорили бы капитально, и все как надо.
– Они фашисты, – сказал Володька. («Интересно, в оптику лицо видно у того, в кого бьешь?») – Дядя Кузьма, дай в немца стрельнуть. Ну хоть в одного, – попросил Володька, и голос у него в эту минуту был вовсе не героический, а вроде того, которым ребята просят у мамки конфету.
Лицо Кузьмы стало серым, черные глаза погасли. Он крякнул досадливо и, помолчав, снова ожил, но уже в строгости.
– Выстрелить я тебе дам, чего ж тут. Но в человека не дам. Стреляй вон… в галку, все равно промахнешься…
Но выстрелить Володьке так и не довелось – Кузьма вдруг встал на колени, быстро собрал все гильзы с пола. Собрал все до единой, ссыпал в торбу, сунул Володьке и приказал шепотом лезть к колоколам, а от колоколов в маленький люк – в шатер. Он и винтовку свою Володьке подал.
Из шатра, продырявленного временем, пулями и еще невесть какими ударами, в щелку между досок, Володька увидел, как Кузьма, достал из-под соломы немецкий автомат «шмайссер». И тут же Володька услышал шаги по лестнице.
Немного погодя на колокольню влезли три немца с пулеметом. Они вскинули автоматы, наставив их на Кузьму.
– Полицай, – сказал Кузьма, подняв руки.
Немцы что-то коротко крикнули ему, он кивнул головой на солому и побледнел – пиджак с полицейским удостоверением был на Володьке.
– Документ! – повторил немец, ткнув ему автоматом в губы.
Кузьма выдохнул разбитыми губами горячий воздух, сплюнул на сторону.
– Нет документа. Дома забыл.
Володьку будто в темечко тюкнули, тьма навалилась на него, и, продираясь сквозь тьму, он спрятал винтовку за балку и мешочек с гильзами спрятал. Открыл люк и в пиджаке спустился вниз. Подошел к Кузьме и подал ему пиджак.
Кузьма положил ему ладонь на голову.
– Внучонок. Пугливый он, вас услышал и спрятался. Домой гоню, а он упирается. Больно пугливый…
Один немец документ читал, сверяя его с личностью Кузьмы. Другой полез в люк, посмотреть, нет ли там еще кого. Третий прилаживал пулемет в проеме.
Приняв документ у немца, Кузьма покачал головой и вдруг начал на них кричать. Мешая немецкую и русскую речь, он доказывал им, что никакой мало-мальский солдат, даже самый молодой и сопливый, даже самый последний дурак не станет устанавливать пулемет на колокольне.
– Небось не кавалерия наступает, небось танки. Поднимет пушку, шваркнет – и аллес, и майн гот. Полетите вы к богу в рай со своим пулеметом. Пулемет на бугре ставить нужно, чтобы в землю закопаться и в случае чего удобно отступить.
Немцы, молодые и яростные, слушали его, смущаясь и злясь, потом тоже заорали, перебивая друг друга. По некоторым немецким словам, которые Володька за войну уже научился различать, ему стало ясно, что они бранят Кузьму и требуют ответа: мол, нам не велишь, а сам чего на колокольне засел?
– Тут мое место, – ответил им Кузьма. – Мне отступать некуда. Меня в этой церкви крестили, тут я и помирать стану.
Немцы еще пошумели, но, видимо поразмыслив, решили с колокольни сниматься. Сказали, что он и есть настоящий дурак, потому что немецкая армия отступает временно и вскорости снова будет здесь. Но Кузьма только головой качал:
– Будет – не будет, один бог знает, а мне уже не по возрасту шляться туда-сюда.