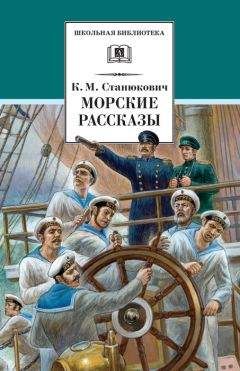1896
I
Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.
По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль.
Как-то торжественно-безмолвно кругом.
Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик океан всегда находится в добром расположении духа.
Бережно, словно заботливый, нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.
Пусто вокруг!
Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.
Изредка блеснет на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, – и снова пусто. Снова рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.
Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера.
Небольшой, весь черный, стройный и красивый со своими тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытыми парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом бежит себе миль по семи-восьми в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазной пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.
На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера к подъему флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.
Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые, загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борта, пушки и медь – словом, убирают «Забияку» с той щепетильной внимательностью, какой отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где все, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.
Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда горластый боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара, и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «убирки», выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».
Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трех слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз.
Время от времени матросы бегали на бак, к кадке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борта, и особенно старательно, когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившаяся по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.
Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырех до восьми часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутой ночной сорочкой, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас – по румбу ли правят рулевые, или на паруса – хорошо ли они стоят, или на горизонт – нет ли где шквалистого облачка.
Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках.
И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится и он выпьет стакан-другой чаю со свежими, горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольет в себя.
II
Вдруг по палубе пронесся неестественно-громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед:
– Человек в море!
Матросы кинули мгновенно работы и, удивленные и взволнованные, бросились на бак и устремили глаза на океан.
– Где он, где? – спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело как полотно.
– Вон, – указывал дрогнувшей рукой матрос. – Теперь скрылся. А я сейчас видел, братцы. На мачте держался… Привязан, что ли, – возбужденно говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.
Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.
Сигнальщик смотрел туда же в подзорную трубу.
– Видишь? – спросил молодой лейтенант.
– Вижу, ваше благородие. Левее извольте взять.
Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру.
И взвизгивающим дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:
– Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!
И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил:
– Не теряй из глаз человека!
– Пошел все наверх! – рявкнул сипловатым баском боцман после свистка в дудку.
Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.
Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кителя, поднимались по трапу на палубу.
Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздались его громкие отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какой-то лихорадочной порывистостью. Все в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.
Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исключением двух-трех, были убраны. «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.
– С Богом! – крикнул с мостика капитан на отваливший от борта баркас.
Гребцы наваливались изо всех сил, торопясь спасти человека.
Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было и в бинокль.
По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера.
Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какой ничтожной скорлупкой казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.
Скоро он казался маленькой черной точкой.
III
На палубе царила тишина.
Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми вполголоса:
– Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.
– Потопнуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно.
– Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью.
– А то и сгорел.
– И всего-то один человек остался, братцы!
– Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли.
– Живой ли он?
– Вода теплая. Может, и живой.
– И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акулов страсть!
– Да-a, милые! Опасная эта флотская служба. Ах какая опасная! – произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.
И с омраченным грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля Бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.
Прошло три четверти часа общего томительного ожидания.