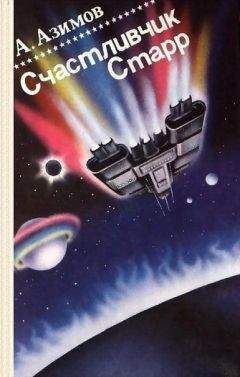Глава 12
«4 мая, 19
Час ночи — не совсем подходящее время, чтобы делать записи в дневнике. Но я не могу уснуть и устала лежать в темноте, думая о… неприятном, а потому зажгла свечу и отыскала мой старый дневник, чтобы „излить душу на бумаге“.
Я не сделала ни одной записи на этих страницах с того вечера, когда сожгла мою книгу и упала с лестницы… и умерла. Теперь я возвращаюсь к жизни и нахожу все изменившимся, и незнакомым, и пугающим. Кажется, то, о чем я писала раньше в этом дневнике, происходило в какой-то прошлой жизни. Листая страницы и читая эти веселые, легкомысленные записи, я удивляюсь: неужели все это писала я, Эмили Берд Старр?
Ночь красива, когда человек счастлив, утешает, когда он в горе, ужасна, когда он одинок и несчастен. А я в эту ночь ужасно одинока. Страдание совершенно подавило меня. Похоже, я не могу испытывать ни одно ощущение лишь наполовину, так что, когда мне одиноко, это чувство одиночества завладевает моей душой и телом, скручивая их и превращая в одну сплошную боль, пока не выжмет из меня всю силу и мужество. В эту ночь я одинока… одинока. Любовь никогда не придет ко мне, дружба потеряна для меня навсегда, а хуже всего то, что я не могу писать. Я пыталась много раз и потерпела неудачу. Былой творческий огонь, похоже, догорел, оставив лишь золу, и я не могу зажечь его снова. Весь вечер я пыталась написать рассказ. Выходило нечто топорное. Деревянные марионетки двигались, когда я дергала за ниточки. В конце концов я разорвала его на мелкие кусочки и почувствовала, что сделала богоугодное дело.
Эти последние недели были очень горькими. Дин уехал… не знаю куда. Он ни разу не написал… и, думаю, никогда не напишет. Не получать писем от Дина, когда он в отъезде, — это так странно и неестественно.
Однако ужасно приятно снова быть свободной.
Илзи пишет мне, что собирается провести дома июль и август. Тедди тоже будет здесь. Возможно, этим последним обстоятельством и объясняется моя бессонница. Мне хотелось бы убежать отсюда до того, как он приедет.
Я так и не ответила на письмо, которое он написал мне после крушения „Флавиана“. Я просто не могла. Не могла писать о том.
А если по приезде он заговорит о случившемся с ним на вокзале… я этого не вынесу. Догадается ли он, что я люблю его и поэтому смогла бросить вызов времени и пространству, чтобы спасти его? При одной мысли об этом я готова умереть от стыда. Как и при мысли о том, что я сказала миссис Кент. Однако почему-то я не жалею, что те слова были сказаны. Бескомпромиссная откровенность принесла мне необычное облегчение. Я не боюсь, что она скажет ему о моих словах. Она сделает все, чтобы он не узнал, что я его люблю.
Но мне хотелось бы знать, как я сумею пережить это лето.
Бывают моменты, когда я ненавижу жизнь. Но бывают и другие, когда я люблю ее — горячо и страстно, со страдальческим сознанием того, как она прекрасна… или как могла бы быть прекрасна, если бы…
Прежде чем уехать Дин забил досками все окна Разочарованного Дома. Я стараюсь держаться подальше от тех мест, откуда могла бы его увидеть. Но все равно его вижу. Ожидающего там на холме, вечно ожидающего, немого, слепого. Я так и не забрала из него мои вещи, что тетя Элизабет считает явным проявлением безумия. И я не думаю, что Дин забрал свои. Все осталось нетронутым. Мона Лиза по-прежнему насмешливо улыбается во мраке, Элизабет Бас с презрительной терпимостью думает о „темпераментных“ идиотках, а леди Джованна все понимает. Мой милый маленький домик! Он никогда и никому не будет родным домом. Я чувствую то же самое, что чувствовала много лет назад — в тот вечер, когда гналась за радугой… и потеряла ее. „Будут другие радуги“, — сказала я тогда. Но будут ли?»
«15 мая, 19
Этот весенний день был как песня и случилось чудо. Оно случилось на рассвете, когда я высунулась из моего окна, прислушиваясь к шепоту озорного утреннего ветерка, прилетевшего из рощи Надменного Джона. Внезапно пришла вспышка… невыразимо блаженный миг, когда я могу заглянуть в вечность… пришла снова… после всех этих долгих месяцев, когда ее не было. И я вдруг поняла, что могу писать. Я бросилась к письменному столу и схватила перо. Все раннее утро я писала, а когда я услышала, как кузен Джимми спускается по лестнице, уронила перо и смиренно склонила голову в знак искренней благодарности за то, что снова могу писать.
Нет в этом мире ничего,
что было б лучше позволения трудиться,
Ведь Бог, и проклиная[39], дает дары прекрасней тех,
Что люди могут дать, благословляя[40].
Так написала Элизабет Браунинг… и написала правду. Трудно даже понять, почему ТРУД называют проклятием, пока не вспомнишь, как горек принудительный или неприятный труд. Но работа, для которой мы годимся, выполнять которую, как мы чувствуем, нас послали в этот мир… Какое это блаженство и какую полноту радости приносит такая работа! Я почувствовала это сегодня, когда ощутила прежний жар в кончиках пальцев и когда перо снова показалось другом.
„Позволение трудиться“… А ведь можно подумать, что уж труд-то доступен любому человеку. Но иногда страдание и глубокое горе не дают нам возможности работать.
И тогда мы понимаем, что мы потеряли, и догадываемся, что лучше оказаться проклятым Богом, чем забытым Им. Если бы Он в наказание за непослушание обрек Адама и Еву на праздность, вот тогда они действительно оказались бы отвергнутыми и проклятыми. Не все мечты о том рае, где текут „четыре реки“, могут быть так сладки, как те, которым предаюсь я в этот вечер, когда ко мне вернулась способность трудиться.
О, Боже, пока я жива, всегда давай мне „позволение трудиться“. Вот моя молитва. Позволение трудиться и смелость».
«25 мая, 19
Дорогой солнечный свет, какое ты могучее лекарство! Весь этот день я наслаждалась чудом цветущего мира, сияющего подвенечной белизной. А вечером в воздушной купели весенних сумерек омыла мою душу от праха и тлена. Я выбрала, за ее уединенность, старую дорогу, ведущую на Отрадную Гору, и, счастливая, всё шла и шла по ней, останавливаясь каждые несколько мгновений, чтобы продумать до конца какую-нибудь новую мысль или прочувствовать образ, пришедший ко мне словно крылатый дух. После наступления темноты я долго бродила по лугам на холме, разглядывая в мой полевой бинокль звезды. Когда я вернулась, у меня было такое чувство, словно я летала за миллионы миль от земли в голубом эфире, и все мое прежнее окружение на миг показалось странным и давно забытым.
Но была одна звезда, на которую я не смотрела. Вега из созвездия Лиры».
«30 мая, 19
В этот вечер, когда я писала новый рассказ и добралась до кульминации, пришла тетя Элизабет и сказала, что хочет, чтобы я прополола грядку с луком. Так что мне пришлось отложить перо и спуститься в огород. Но человек может пропалывать лук и одновременно думать о чем-нибудь совершенно чудесном. Какое счастье, что нам не всегда приходится вкладывать душу в работу, которую выполняют наши руки, а иначе у кого осталась бы хоть малая толика души? Так что я полола грядку, а в воображении блуждала по Млечному Пути».
«10 июня, 19
Вчера вечером мы с кузеном Джимми чувствовали себя убийцами. Да мы и были убийцами. К тому же убийцами младенцев!
В этом году урожай на клены. Похоже, проросло каждое семечко, упавшее с клена этой весной. На лужайке перед домом, в новом и старом саду — повсюду сотнями проросли крошечные клены. Разумеется, их пришлось повыдергать. Никак нельзя было позволить им вырасти. Так что вчера мы весь день выдергивали их и чувствовали себя такими подлецами и преступниками. Милые крошки! У них есть полное право расти и со временем превратиться в большие, величественные, великолепные деревья. Кто мы такие, чтобы лишать их этого права? Я застала кузена Джимми в слезах — он плакал из-за отвратительной необходимости уничтожить эти юные жизни.
— Я иногда думаю, — прошептал он, — что это неправильно, не давать вырасти тому, что растет. Я так и не вырос… в том, что касается моей головы.
А ночью я видела ужасный сон: меня преследовали тысячи негодующих призраков молоденьких кленов. Они толпились вокруг меня, подставляли мне подножки, били меня своими веточками, душили меня своими листьями. Я проснулась, с трудом хватая ртом воздух, испуганная почти до смерти, но с великолепной идеей для рассказа „Месть дерева“».
«15 июня, 19
Сегодня днем я бродила с ветром по душистым травам на берегах пруда и собирала землянику. Я люблю собирать землянику. Это занятие для вечно юных. Боги могли бы собирать землянику на высоком Олимпе без всякого ущерба для своего достоинства. Королева… или поэт согласились бы поклониться ей, и нищий имел бы такую честь.