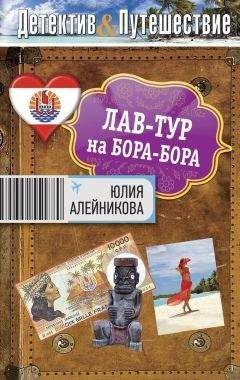Однажды Ленька рассказал про голодуху и как они со своим тятькой ходили к кулаку Выродову менять полушубок на хлеб, как Выродов обманул их да еще по шеям надавал.
Когда Ленька дошел до этого места, Гришаня вдруг выплюнул травинку:
— Подлюга!..
Ленька кивнул:
— Они, богатеи, все такие. Горло порвут за свое. Подыхай — не помогут. Всех их бить надо. Под самый корень. Так и Лыков говорит...
Гришаня повернул голову к Леньке, усмехнулся как-то странно:
— Мой тятька тоже богатый. Да и я, считай... Так что ж — под корень?
Ленька сначала покраснел, потом сел порывисто, заговорил торопясь:
— Не, Гришаня... Вас — нет. Вы добрые... И ты. Таких бы поболе... Помогаете, не злобствуете. Не-е, твой тятька славный. А ты, видал, друг мне хороший. — И закончил убежденно: — Не, вас — нет.
Гришаня снова повернул голову лицом к небу.
— Хороший, говоришь? Спасибо. Хоть от тебя добро услышал...
И опять умолк надолго.
Иногда Ленька с Гришаней затевали какую-нибудь игру. Чаще всего в пятнашки, когда купались в озере. Тогда Гришаня бывал веселым, даже хохотал. А нынче у него и глаза какие-то не такие, как всегда,— усталые, тоскливые.
— Слышь, Гришаня, что случилось-то? — снова спросил Ленька.— Или захворал?
Гришаня мотнул чубом.
— Так... Ерунда. Тошно что-то.
— Может, на озера сбегаем, а? Искупаешься, и все пройдет. Холодненькая водичка знаешь какая? Все вышибает. Не веришь? Точно. Вот я, бывало, устану — бултых в воду. Вылезу — и хорошо. А? Айда?
— Не хочется... В другой раз сходим. Расскажи что-нибудь. У тебя всегда новостей полно.
Ленька обрадовался:
— Новостей? Есть новости.
И выложил их все без разбору: и про недавнюю встречу с Тимохой Косым, и про побег Ощепкова, и про убийство охранника, и про школу, которую собрались открывать Лыков и дядька Аким Подмарьков.
— А школа-то какая! — воскликнул восторженно Ленька.— Там не только будут грамоте учить — и ремеслу тоже: плотницкому, сапожному или еще какому. Для бедняков. Это дядька Аким придумал! — И Ленька прибавил с гордостью:
— Я тоже пойду в школу. Плотничать научусь, дома сам ставить буду.
Гришаня усмехнулся.
— Счастливый ты, Зяблик. Все у тебя ясно и просто. И впереди светло...
— А что? — засмеялся Ленька.— Оно и вправду весело жить. Каждый день что-нибудь случается интересное.
Подошел Фома Тихонович.
— А, у нас гость! Ну здравствуй, здравствуй. О чем это вы тут разговор такой веселый ведете? Ежели не секрет, конешно.
— Какой там секрет,— произнес Ленька.— Я вот рассказываю, что Лыков с дядькой Акимом Подмарьковым школу задумали открыть.
Фома Тихонович закивал:
— Верно. Был такой разговор. Дело нужное.
— Вот. Завтра утром Митрий Шумилов с Кольшей Татуриным едут в уезд на комсомольский слет, и Лыков им наказал, чтобы там бумаги да карандашей попросили: дескать, скоро ученье начнется, а писать и разу не на чем. А еще сказал,— глаза у Леньки радостно заблестели, — чтоб звали к нам агитотряд представления казать!
Фома Тихонович удивился и обрадовался:
— Неужто? Завтра, говоришь?
— Не, это Митька с Кольшей едут завтра, а представления будут в субботу или в воскресенье.
— Занятное, должно быть, дело.
— Еще бы! Весь народ созовем в нардом. И вы приходите все. Гришаня, ты придешь?
Гришаня хмуро промолчал, ответил Фома Тихонович:
— Как же, придем. Не так уж часто нас балуют потехами...— И тут же озабоченно повернулся к Гришане.— Я ить за тобой. Пора нам.
Гришаня кивнул:
— Сейчас, тять.
Фома Тихонович хлопнул Леньку по плечу. — Ты уж, Лексей, извиняй нас. Сам понимаешь — дела.
И пошел к завозне, где стоял уже запряженный в дрожки конь. Посидев малость, поднялся и Гришаня.
— Забегай почаще, Леня. Хоть завтра, к вечерку. На озера сходим. А на представление я приду...
Но ни завтра, ни послезавтра Леньке не удалось сходить с Гришаней на озеро — не до купанья оказалось...
Спал Ленька в эту ночь крепко и сладко, как давно не спал. И сон снился ему сладкий и радостный: про маманю. Подходит будто она, веселая, улыбается. «Здравствуй, Ленюшка, вот я и нашла тебя! Сколь искала и — нашла!» У Леньки от счастья слезы брызнули. «Ну вот, а говорили, что ты бросила нас. Я знал, что ты не бросила. Я знал. Ты просто тогда не успела...»
Маманя плачет, обнимает его, целует, приговаривает: «Не бросила, Ленюшка, не бросила... Видишь: вот она я...» Ленька прижимается лицом к маманиной щеке, мягкой и теплой, и никак не может поверить, что это она. Шепчет: «Неужто ты? Неужто пришла? А вдруг это во сне?..»
А маманя снова целует Леньку, говорит: «Пришла, Ленюшка, пришла... Собирайся, сыночек, домой поедем. Там уже давно голодухи нет. И избенка наша, поди, совсем развалилась без нас...»
Леньке очень хочется домой, да дядьку Акима оставлять жалко. И Варьку. «Маманя, давай здесь жить будем? Я сам дом поставлю. Новый. Вот только обучусь в школе плотницкому делу».
Мама плачет и качает головой: «Нет, Ленюшка, вставай. Да веди меня скорей к девчонкам: истосковалась я по ним, изболелась. Вставай, Ленюшка...»
Ленька пытается встать и не может, хоть плачь. Голова сама так и падает на подушку. Ленька улыбается виновато, говорит: «Я счас, маманя, счас... Только маленько посплю и встану. Еще чуточек...»
Но маманя совсем не слушает его, трясет за плечо: «Ну, вставай же, вставай!..»
Ленька открыл глаза: нет мамани. А стоит над ним тетя Паша вся в слезах и трясет за плечо:
— Вставай, Ленюшка, вставай — беда!
— Что такое? — вскочил Ленька с лежанки, будто и не спал.
— Что?!
— Николушку Татурина убили... А дружок-то твой, Митрий Шумилов, прискакал в крови весь, тоже, поди, не жилец...
Затаилось село, присмирело. Ни шума, ни гомона. Люди ходили, работали притихшие, неразговорчивые: одни от горя, другие от страха, третьи — такие, как Ощепковы или Заковряжины,— чтобы не высказать случаем своего злобного удовлетворения...
Неделя уже, как увезли Митьку под вооруженной охраной комсомольцев в уездную больницу, четыре дня прошло, как похоронили Кольшу Татурина, а Ленька все еще никак не придет в себя. За что ни возьмется — все из рук валится. И мысли какие-то вялые, тягучие, тяжкие...
Жалко Митьку, еще жальче Кольшу... Только вспомнит, как заколачивали его гробовой крышкой, как старик Татурин бился седой всклокоченной головой о комковатый глиняный холмик,— места себе не может найти.
Там, над могилой своего братана, Серега Татурин, растирая костлявым кулаком по щекам слезы, хрипло кричал:
— Кольша, скажи, кто тебя убил? Скажи, Кольша?..
Крючконосая Рагозиха, которая всюду поспевала — и на крестины и на похороны,— шамкала беззубым ртом, глядя на Татуриных:
— Вот-вот, майтесь теперя... За грехи свои, за вероотступство свое... Сами не уберегли меньшого, сами и майтесь... Зачем его отпустили с Митькой Шумиловым? Ить над ним знак был, страшная беда стерегла... Так не-ет, пустили мальчонку в анчихристово пекло. А теперя майтесь, майтесь...
Сельчане молча и угрюмо поглядывали на Рагозиху, а у каждого в голове было одно и то же: кто убил Кольшу и ранил Митьку?
Лыков твердо стоял: стреляли «свои», сельские бандиты. Больше некому. Но кто? Кто знал, что парни рано утром поедут в уезд? Как успели устроить засаду почти в десяти верстах от села? Сколько их было?
Дело малость прояснилось, когда Митька ненадолго пришел в сознание. Он, едва шевеля губами, успел сказать Лыкову, что видел одного бандита, который стрелял из-за дерева,— рыжебородый, в зеленой фуражке. Мужик вроде бы знакомый, Митька видел его, но где — не помнит. Он и убил Кольшу, с первого же выстрела. А в Митьку стреляли другие — из кустов. И догробили бы, не окажись у него нагана. Отбился. Все пули выпустил.
Кто он, этот рыжебородый в зеленой фуражке? Лыков в бессильной ярости жал кулаки, мотался по селу, но так. и не смог ничего вызнать. Не нашел никаких концов и отряд милиции, вызванный из уезда.
Ленька совсем забросил игры. Даже к Гришане не было времени забежать: дел всяких навалилось — куча. Он, считай, остался один работник на два двора: на свой и на шумиловский. Дядька Аким еще в начале недели уехал в Барнаул добывать по заданию Лыкова плотницкий и слесарный инструмент для трудовой школы. А тетя Марья Шумилова после несчастья как слегла в постель, так и не встает до сих пор. А у них какое-никакое хозяйство: корова, конь, два поросенка, огород. Только поворачивайся. Особенно много хлопот с огородом. На дворе сушь — знай поливай да поливай грядки. А колодец вон где — в соседнем дворе. Не каждому под силу работка, и уж, конечно, не для такой девчонки, как Варька,— худой да тонкой.
Приходит Ленька к Шумиловым каждый день или утром, или к вечеру — как успеет управиться с делами дома. Когда он в первый раз забежал помочь, Варька прямо-таки взъерошилась вся, будто воробей перед дракой: