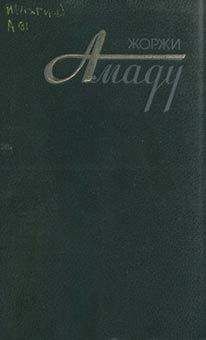Я стала торопиться. Было уже поздно, и всенощная могла окончиться. Люблю я, страшно люблю всенощную, особенно в Великий пост.
Мы пришли почти к самому концу и стали в уголочек. Чудесно в нашей церкви: полусвет, лампадки, и поют такие хорошие-хорошие молитвы.
— Боже, Боже, добрый Господи! Спаси, спаси Володю, сохрани его, пожалей нас, пожалей его бедного папу! Боже, Ты все можешь, спаси, спаси Володю, у нас столько горя, пожалей нас! Я злая, я гадкая, но, Боже, я постараюсь, я исправлюсь, я буду заботиться о Володе, но спаси, спаси его!
И опять я плакала, горько плакала в своем уголке, пока Глаша не повела меня домой.
Дома было все так же тихо. Володя лежал, не двигаясь, и больше не стонал. Я села на диванчик около мамочки и меня точно качать начало, голова стала кружиться, кружиться… Я заснула.
* * *
Сегодня долго заспалась. Как только встала, сейчас же опять кинулась в халатике в комнату Володи. Доктор уж был там. Я страшно испугалась: значит, хуже.
— Ну, Муся, — говорит мамочка, и голос у нее совсем другой, чем вчера, — сегодня Володе, слава Богу, гораздо лучше, жар спал, всего тридцать восемь, теперь живо дело на лад пойдет.
Господи, какое счастье, какое счастье!.. Благодарю, благодарю Тебя, Боже!
Володя здоров. — Новые шалости
Слава Богу, в доме у нас все понемножку успокоилось и пришло в порядок. Володя наконец поднялся с постели, a то уж больно он там залежался. Но если б вы только знали, на что он похож стал!
Когда я его увидела первый раз одетым и стоящим на ногах, то так и ахнула: гуляет себе по квартире одна только кадетская курточка с продолжением, a внутри будто совсем ничего нет, пусто да и только — так все на нем точно на вешалке болталось. Зато вырос он очень сильно, длинный-предлинный сделался.
A аппетитец!.. Я еще подобного не видывала: как у хорошего ломового извозчика, да и того еще, чего доброго, перещеголяет. Это он, видите ли, «наверстывает потерянное время», десять дней ведь кроме морса да нескольких глотков молока ничего в рот не брал, вот теперь и старается. Ну, при таком усердии живо нагонит. Одна беда, впрок ему что-то не идет: ест-ест, a все худой, как щепка.
И капризничал же, как махонький. Раз — он еще в постели лежал — был у нас к обеду гусь, а ему цыпленка зажарили, так он горькими слезами плакал:
— Хочу гуся!
И это мужчина, воин, как он себя величает. А сделай это я, три года бы проходу не давал.
Ральфик мой золотой тоже домой вернулся, a то его, бедняжку, к тете Лидуше откомандировали, чтобы не лаял и под ногами не крутился. Если бы вы только видели радость бедного изгнанника, когда я за ним пришла! Я еще и раздеться не успела, только нагнулась галоши снять, как мой черномордик очутился на моей спине, облизал меня всю, лицо, уши, даже волосы, и потом целый час успокоиться не мог, все прыгал и опять целоваться начинал. Ужасно он хороший, такой преданный, честный. Хоть мордашка у него черная, но душа чистая, беленькая, без единого пятнышка!
Одно, что у нас, по счастью, еще в порядок не пришло, это мои уроки музыки: дома я играть не могу, боятся, чтобы от этого у Володи голова не заболела — еще бы, сохрани Бог! Ну, a посылать меня в чужой дом концерты давать, для этого мамочка слишком деликатна.
Я думаю, Снежины до сих пор не забыли, что я им в тот знаменитый день наиграла. Володька говорит, что у меня замечательное постоянство в музыке и, что бы я ни играла, все выходит из оперы «Заткни уши и беги вон». Видите, теперь уж сами можете видеть, что он, слава Богу, поправился.
Володька дома старается, нагоняет, что не доел, а я в гимназии — наверстываю, что не дошалила. Не знаю отчего, но, по-моему, теперь в гимназии как-то особенно весело стало. И на улице теперь весело, солнышко, светло, жаль только, что каток тю-тю.
В классе у нас с некоторых пор новая мода завелась, это пока я не ходила, потому сперва про нее ничего и не знала. Сижу я себе как ни в чем не бывало, чувствую, сзади что-то с моими волосами мудрят. Ну, думаю, пусть себе. Потрогали, потрогали и успокоились, a я и вовсе не беспокоюсь.
Вдруг Сахарова мне шепчет:
— Муся, ленту из косы потеряешь!
Я быстро так — цап за косу, я ведь все скоро делаю, тихо да осторожно не умею. Дернула косюлю, a кончики — ляп меня по щеке, да и кругом брызги полетели. Мокро. Фи! Это, изволите ли видеть, они мою косу в чернильнице купали; пока я смирно сидела, та чернил-то вдоволь и напилась. Вот если бы косюля моя действительно «кверху» росла, со мной такой каверзы не приключилось бы. А тут она как раз до глубины чернильницы и дотянулась. Ну понятно, сейчас бегом в умывальную оттираться и отмачиваться.
Но на географии вчера у нас штука вышла — всем штукам штука.
Наступает уже конец четвертой четверти, у всех почти отметки есть. По географии всего семь человек не спрошено, между прочим, Пыльнева, та, что на Законе Божьем «Эй, вы, голубчики» покрикивала. День себе идет как идет. Последний урок — география. Швейцар как всегда тащит карту на доску вешать. Вдруг слышу толос Пыльневой:
— Карта-то к чему?
— Как к чему? — говорят ей. — Потому что география.
— Какая там география — рисование.
— Да что ты, с ума сошла? Всегда в пятницу последний урок — география.
— Боже мой! Ведь правда пятница, a я думала четверг и рисование. Господи, что же я делать-то теперь буду? Ведь непременно вызовет, у меня же нет балла, a я не учила.
Чуть не плачет, да и понятно — какие тут шутки: Терракотке «пятерку», a то и единицу поставить — как хлеба с маслом съесть.
— Слушайте, господа, если меня вызовут, ради Бога, скажите, что меня нет.
— Что ж ты думаешь, Елена Петровна слепая, что ли, что тебя не увидит?
— Да ведь я далеко, на самой последней скамейке.
Вдруг она что-то сообразила и сразу повеселела.
— Евгении Васильевны не будет на уроке?
Кто говорит «да», кто «нет».
— Если уйдет, все пройдет благополучно. Только, ради самого Бога, скажите, что меня нет; a меня и правда не будет.
— Что ж ты, сквозь землю провалишься, или шапку-невидимку наденешь?
— Да уж провалюсь, надену, все сделаю, только скажите, что меня нет.
— Красиво как мошенничать! Я не позволю Елену Петровну обманывать, — вылезает Танька.
Ах ты гадость! Смеет разговаривать! Но в эту минуту входит Терракотка. Громко браниться нельзя, a потому я нагибаюсь через проход и говорю:
— Не смей, не смей сплетничать!
— Хочу и буду!
— Будешь? Ладно! Тогда, ей-Богу, я скажу, что ты немецкий перевод с домашнего листка списала!
— Не посмеешь.
— Вот тебе крест, скажу! — и я широко крещусь.
— Старобельская, во-первых, прекратите ваши разговоры, a во-вторых, чего это вы вдруг закрестились? Сейчас не время и не место. Не мешайте Грачевой слушать.
Вот противная! Еще из-за этой подлизы мне же и досталось! Ну, ладно, пусть только выдаст Пыльневу. Я ее, подлизу этакую, так подкачу…
Женюрочки нет, оглядываюсь в сторону Пыльневой — что за чудо? — и ее нет. Заглядываю под скамейки, тоже не видать. Правда, шапку невидимку надела.
Армяшка вызывает Андронову, Мартынову… Пыльневой нет как нет. Я давно уж хочу навести справки, да никак не могу, как ни повернусь, географша на меня глаза пялит:
— Сидите, пожалуйста, смирно.
A сзади хихикают со всех концов класса. Армяшка бесится. Женюрки все нет.
Отпустила, наконец, душу Мартыновой на покаяние.
— Пыльнева.
Молчание.
— Пыльнева, — опять говорит она.
Кое-кто фыркает, кое-кто нерешительно так говорит:
— Ее нет.
— Что? Не пришла?
— Не пришла! — как сговорившись, рявкнули мы в один голос с Тишаловой, и в ту же минуту я поворачиваю глаза на Таньку:
— Только посмей!
Но она молчит. В классе опять фыркают.
— Прекратите ли вы ваш глупый смех, вам сегодня все смешно. Сахарова, к доске.
Армяшка отвернулась лицом к карте. Первая скамейка продолжает оглядываться. Я тоже быстро поворачиваюсь.
— Где? Где? — одними губами спрашиваю я.
Кумушка показывает пальцем на наш большой стенной шкаф, где хранятся тетради рисования, рукоделия и всякие другие подобные прелести.
Ловко, вот ловко! Это она туда забралась и сидит под нижней полкой рядом с чернильной бутылью.
Хоть я и на первой скамейке, но с моего места все отлично видно, потому что шкаф находится в конце нашего прохода. Продолжают хихикать и поворачиваться. Вдруг высовывается испуганная голова Пыльневой, a рука ее машет нам, чтобы мы не смотрели и не смеялись. Вид у нее такой потешный, что мы начинаем громко фыркать. Терракотка уже открывает рот бранить нас, в эту минуту входит Евгения Васильевна…
Мы умираем, a Пыльнева, верно, давно скончалась. На минуту становится совсем тихо, но потом опять начинают посмеиваться и посматривать на шкаф. По счастью, с места Женюрочки нельзя разглядеть, что в шкафу происходит, видно лишь, что он на три четверти открыт.