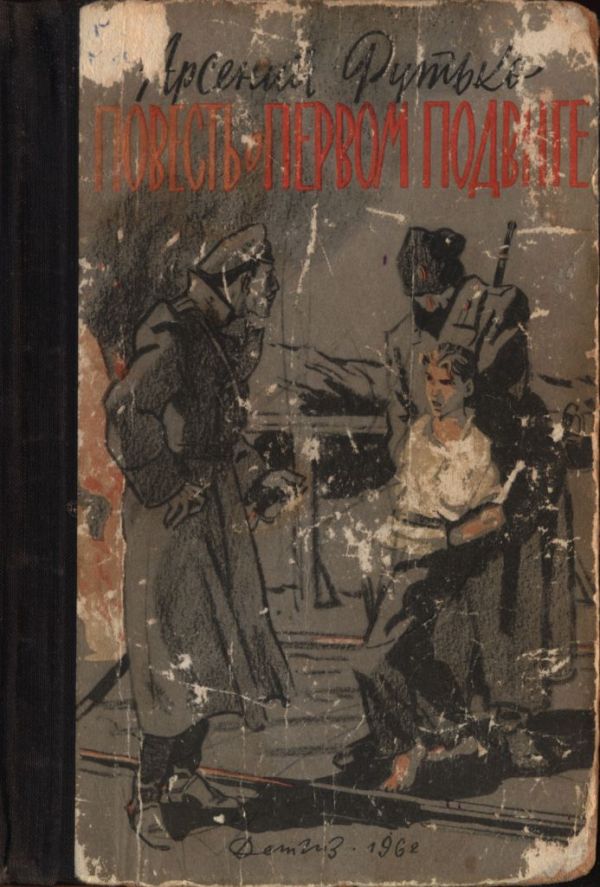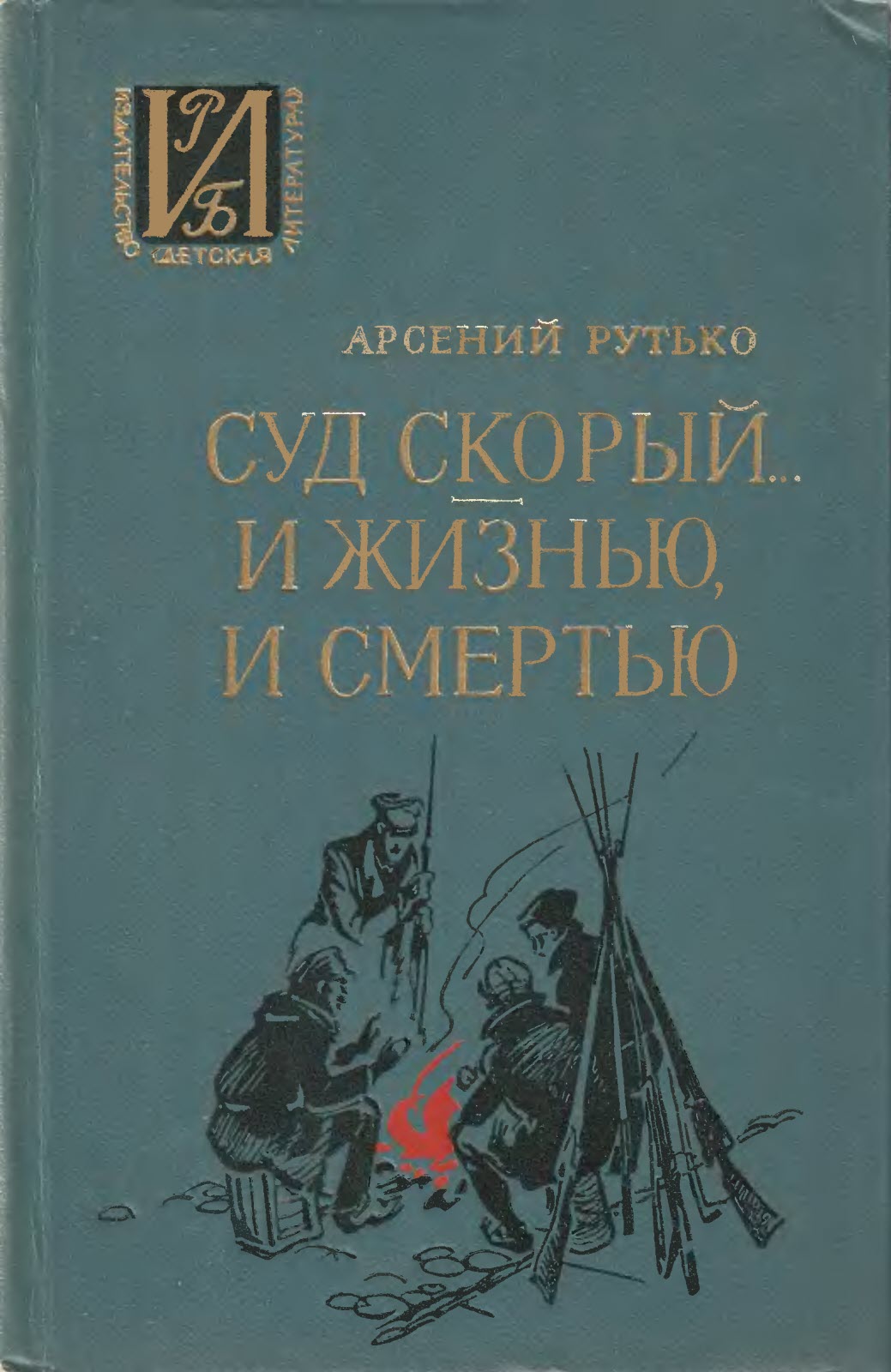солдатам глаза и убивали детей. И постепенно подвиги легендарного Кузьмы Крючкова и других наших героев и даже подвиг французского авиатора Роланда Гарро, протаранившего своим самолетом немецкий цеппелин и погибшего при этом, перестали мне казаться подвигами.
Отец стал все меньше бывать дома: большевики выбрали его своим представителем во Временный комитет, и он все дни проводил на собраниях, ссорясь с меньшевиками и эсерами, требуя помощи хлебом голодающему населению. Два раза в него стреляли из-за угла.
А потом, прежде чем уйти совсем в подполье, после разгрома июльской демонстрации в Петрограде, комитет РСДРП послал его на работу в деревню. Бывший батрак, он прекрасно знал интересы и нужды беднейшего крестьянства, которое надо было подготовить к решительной борьбе против Временного правительства, к Октябрьским боям.
Октябрьская революция прошла в нашем городе, как тогда говорили, «малой кровью». Буржуазия и помещики, все эти Тегины, Барутины и Кичигины, разбежались, эсеры и меньшевики притаились.
Но, когда в Сибири восстали против советской власти отправлявшиеся на родину чехословацкие эшелоны, когда «верховный правитель» адмирал Колчак, собрав под свои палаческие знамена всю контрреволюцию, двинулся на запад, когда в Самаре было организовано Учредительное собрание и большинство городов Среднего Поволжья заняли белые, тогда и в нашем городе произошли события, незабываемые по своей бесчеловечной жестокости.
После Октября мы перебрались из барака в огромный особняк на Большой улице, принадлежавший помещику Дедилину, бежавшему из города.
Это был дом со множеством комнат, с большим залом, где лепной потолок подпирался колоннами и арками, а стеклянную корону над парадным входом держали на плечах два мускулистых бородатых атланта [12].
В доме были широкие мраморные лестницы, на площадках стояли бронзовые рыцари с алебардами в руках. В комнатах от пола до потолка поднимались зеркала, на картинах нестерпимо синее море билось о береговые утесы и томно улыбались изящные дамы с обнаженными плечами.
Мама вначале никак не хотела туда переезжать:
— Чужое же, Даня! За всю жизнь чужой нитки не взяли!
Но отец только смеялся:
— Наше! Все нашими руками, нашим потом сработано.
В дедилинский особняк переехали вместе с нами десять семей. Первое время Подсолнышка целыми днями ходила по залу от зеркала к зеркалу, кокетливо рассматривала себя и чуть слышно смеялась. Это нас всех очень забавляло.
В свободную минуту, взяв Подсолнышку на руки, отец бродил с ней по залу, останавливался перед картинами и зеркалами.
В свободную минуту, взяв Подсолнышку на руки, отец бродил с ней по залу…
— Ну, дочка, нравится тебе здесь жить? — спрашивал отец.
— Нравится. — Солнышка задумывалась и потом спрашивала что-нибудь неожиданное, свое: — Пап, а в буржуевых во всех домах такие зеркалы? И пол во всех домах клеточками?
— Нет, доченька, не во всех. В некоторых.
— Значит, этот дом — некоторый, — глубокомысленно говорила она.
Один раз спросила:
— Пап, а нас скоро отсюдова выгонют?
Отец нахмурился, не ответил.
И, когда под грохот белогвардейских орудий мы покидали дедилинский дом, отец больше всего жалел об этом из-за Подсолнышки: после такого великолепия тяжело было переезжать в подвал, где на стенах зеленели пятна плесени и ползали мокрицы.
Возвращаться в барутинские бараки, где нас все знали, отец не решился: по слухам, белые, занимая города, целиком уничтожали семьи коммунистов. И мы переехали на Тюремную сторону.
Бои шли на подступах к городу — от орудийных раскатов с утра до вечера звенели в окнах стекла.
Отец и Петр Максимилианович были где-то у вокзала, руководили обороной. Мне не терпелось оставить все и побежать к ним.
Но отец, уходя, велел сидеть дома. Да и Подсолнышка с неожиданной настойчивостью цеплялась за меня — крупные, как горох, слезы катились по ее щекам. А я никогда никого так не любил, как этого маленького, ясноглазого, больного человечка.
Белые наступали на город большими силами, с орудиями, с пулеметами, с броневиком, а у рабочих дружин были только винтовки, да и то мало.
Уже к полудню второго дня боев колчаковцы заняли вокзал и кладбище и, выкатив на кладбищенские аллеи свои трехдюймовки и срубив несколько мешавших им лип, принялись обстреливать город. Все чаще рвались на улицах снаряды. И скоро черный шлейф огромного пожара, роняя на дома искры, потянулся над городом.
Перед тем как наши отступили за город, к Святому озеру, отец забежал на несколько минут домой. В кожаной куртке, с винтовкой за плечами, грязный и запыхавшийся, он торопливо обнял маму, Подсолнышку, на секунду прижался щекой к ее голове.
Положил на стол полбуханки хлеба и банку солдатских консервов. На дворе его ждали, и кто-то нетерпеливо стучал ногой в переплет рамы.
— Ну ладно! — сказал отец. — Вернемся… Данил, береги их! — И пошел к двери.
В первые же два дня белые расстреляли и замучили в нашем городе больше двух тысяч человек — в штабе охраны, в тюрьме и контрразведке, просто на улицах.
На площадях валялись трупы — под страхом смерти их не разрешалось убирать. На деревьях в городском саду висели тела членов ревкома Климова, Назарова и Клюевой, оставшихся для связи в городе.
Мы все это время жили в ожидании расправы. Мама вздрагивала и бледнела от каждого громкого звука за окном — при перестуке копыт, при выстрелах, при крике. На ее измученное лицо страшно было смотреть.
На третий день, уже в сумерки, к нам зашла сгорбленная старушка нищенка, в черном монашеском платке, с холщовой сумой и длинной клюкой в руке. Долго и истово крестилась на пустой передний угол, глядя из-под платка глубоко провалившимися темными глазами.
— Подайте милостыню, Христа ради…
В доме ничего не было, кроме куска хлеба для детей, и мать пригласила нищенку попить «чаю». Кряхтя и крестясь, старуха положила на пол у порога свою суму, прошла. У нее было темное, иссеченное глубокими морщинами лицо и старушечий, выдающийся вперед подбородок.
Держа на длинных растопыренных пальцах блюдечко и дуя на «чай», нищенка глотала кипяток и не спеша рассказывала о том, как свирепствуют по селам каратели. Деревню Каиновку, за уклонение от объявленной белыми мобилизации, «постреляли насквозь из орудиев, а опосля сожгли».
— И еще, вишь, приказ вышел: нам же платить за это смертоубийство! За бомбы то есть…
— А люди где же? — спросила мамка.
— Да ведь которых жизни не решили, по лесам хоронятся…
Выпив две кружки «чаю», нищенка опять долго крестилась на пустой угол. Меня смущал ее пристальный взгляд. Она как будто все время прицеливалась в меня