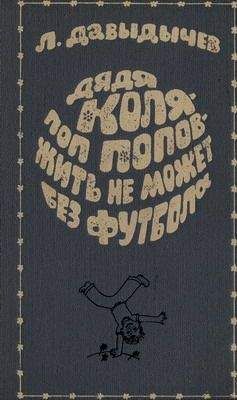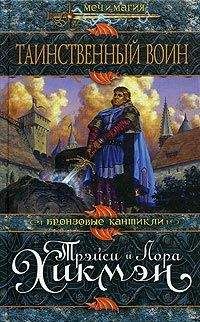Просьбу его обещали удовлетворить, и Жорж Свинкин бодро направился к машине с зарешеченными окошками.
Едва тронулись с места, как ему стало едва ли не весело: да он всё свалит на этого негодяя Попова Николая и на ещё большего безобразника — бывшего двоечника Гаврилу! Он столько наврёт про них, что… ха-ха-ха!.. что… хо-хо-хо!.. что… хи-хи-хи!.. что… хе-хе-хек!.. Почему хек? При чём здесь хек? Но ведь действительно хек какой-то получается… А что он может наврать, предположим, об этом негодяе Попове Николае, если даже не знает, что вратарь без него делал?
А если не врать, а рассказать правду?.. Но вот чего не умел, того не умел Жорж Свинкин. Он просто понятия не имел, как это — говорить только правду — делается.
Но главное: эх, найти бы в леспромхозе этого негодяя Попова Николая!
Только не надо думать, уважаемые читатели, что Жорж Свинкин, имеющий опыт лишь в торговле газированной водой и квасом, действовал столь неразумно, что мы заранее можем быть убеждены в его полной неудаче.
Нет, до неудачи, если она и случится, ещё очень и очень далековато. И тем, кто не верит в бескомандного тренера и не верит ему, предстоит пережить немало серьёзных и опасных событий.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Егор Весёлых расстается с огромными чёрными усами и вспоминает наиболее важные моменты своей жизни, очень горестно размышляя об основном недостатке своего характера
Если бы фамилия человека точно соответствовала тому, как складывалась его жизнь, то Егор Весёлых мог бы иногда с полнейшим основанием носить фамилию Грустных или Печальных, а частенько и — Несчастных. Но несмотря на это он был и оставался весёлым человеком по фамилии Весёлых.
Сейчас вот сидел он на кухне перед зеркалом, держал в руках большие ножницы и в последний раз любовался своими огромными чёрными усами, крутил их, поглаживал…
«Прощайте, прощайте… — с предельной тоской и такой же ласковостью подумал он. — А может быть, до утра хотя бы оставить? Без усов я какой-то… никакой…»
Крутил Егор Весёлых свои огромные чёрные усы, поглаживал их, но странным было то, что пока он даже и не вспоминал бывшего попа, не вспоминал и причины, по которой приходилось браться за ножницы. Пока Егор Весёлых думал только о своих огромных чёрных усах.
Нескоро отрастут новые. А ведь он привык к ним, любил их, гордился ими. Честно говоря, он даже не представлял, как теперь будет жить без них.
Громко и с отчаянием повздыхав, Егор Весёлых отложил ножницы и решил перед сном чаю попить, так сказать, с вареньем и с усами.
Почему же, уважаемые читатели, он так неосторожно рисковал своим достоянием? Или почему он не послушался Николая Попова, когда тот предлагал ему оставить усы в покое, тем более, что исход последнего удара был весьма неопределенным?
Дело тут вот в чем. С детства была в характере Егора Весёлых одна неприятнейшая для него самого черта, о которой он, конечно, никому не рассказывал, но с которой всячески боролся. И до сих пор избавиться от неё не мог.
Черта эта, если говорить прямо, — ярко выраженная, непрестанная склонность к зазнайству, глубоко проникшему в душу Егора Весёлых. Он сознавал, что она к добру его не приведёт, будет вредить ему всю жизнь, и, если он от ярко выраженной, непрестанной склонности к зазнайству не избавится, она в конечном итоге преградит ему путь в большой футбол. А если Егор Весёлых в большой футбол и попадёт, то она, склонность к зазнайству, лишит его возможности бесконечно совершенствовать мастерство, а без этого в большом футболе долго не продержишься и ничего не добьёшься.
Егор же Весёлых, было бы вам известно, уважаемые читатели, дважды проспоривал свою густую кудрявую шевелюру, а усы по той же причине должен был сбрить уже в третий раз.
«Человек обязан быть уверенным в себе, — каждый раз совершенно справедливо рассуждал Егор Весёлых, — но он не имеет права быть самоуверенным. Можно гордиться своим талантом, уважать его, развивать, но хвастать им и зазнаваться — стыд и позор для нормального человека!»
Как говорил его любимый командир, старший лейтенант Синица, от зазнайства ещё никто не умирал, но и ума оно ещё никому не прибавляло. Зазнайки и хвастуны, продолжал далее старший лейтенант Синица, не менее опасны, чем жулики или какие другие преступники, потому что могут подвести хороших людей в любой момент.
Обо всем этом Егор Весёлых, конечно, знал. Знал он об этом, много думал об этом, но никак не мог побороть в себе ярко выраженную, непрестанную склонность к зазнайству. Вот и сегодня в очередной раз судьба наказала его.
И не столько усов ему было жалко, сколько мучило его раскаяние, острое и непреходящее.
Громко и тоскливо повздыхав, Егор Весёлых выпил чаю с вареньем и усами, покрутил их, погладил, взял ножницы, щёлкнул ими в воздухе, осторожно, но крайне решительно остриг правый ус и очень глубоко задумался.
Думал он, конечно, не об усах, тем более, что половины их уже не было. Размышлял Егор Весёлых о своей жизни, которую никак не сочтешь лёгкой и беззаботной, словно надеялся обнаружить в ней хотя бы маленькое, совсем незначительное себе оправдание.
Забегая вперёд, уважаемые читатели, сообщу, что никакого такого оправдания не нашлось.
Шести лет Егорка оказался круглым сиротой, родители его умерли в один год, и он с младшим братом и двумя сестренками очутились, как говорится, на руках одной бабки Домны. Семья-то получилась большая — пять человек! — а полноценного работника нету!
Егорке — шесть лет, старшей сестренке — восемь, братику — четыре, второй сестренке — пять, бабке Домне, — шестьдесят восьмой год.
Вот такая арифметика…
Добрые люди настойчиво уговаривали бабку Домну отдать внуков и внучек в детдом, но она ещё более настойчиво уверяла:
— Пока я жива, все будем вместе. Семейка у нас надёжная. — А внукам и внучкам она ещё настойчивее внушала: — Если никто лениться не станет, выживем. Если никто хныкать не станет, не заметите, как все подрастете.
Егорка сразу понял, что бабка Домна неплохой командир, и жить и расти им помогала, как он потом рассказывал, армейская дисциплина и взаимовыручка.
Не оставили их в беде ни родственники, ни соседи, ни комбинат, где работали родители.
Весной добрые люди вспахивали надёжной семейке огород, осенью привозили и разделывали дрова, у бабки же Домны никто, даже самые младшие, никогда не сидели без дела.
И всегда у них дома было весело. А весело — это вовсе не значит, что всё время все только тем и занимались, что хохотали, хихикали, гоготали и приплясывали.
Весело жить — это значит, что никто не думает о беде, все заняты нужными, необходимыми делами, все верят, что с каждым днём жить будет всё лучше и лучше, если не тунеядничать и не хныкать.
А похныкать причин было предостаточно каждому и каждый день. Вот, предположим, примчится Егорка из школы, требуется ему быстренько поесть да на каток, а бабка Домна велит немедленно курятник вычистить. И работёнка-то не очень приятная, и куры несусветный гвалт устраивают, но и не надо Егорке напоминать, что омлет и яичница — пища вкусная и полезная. А на коньках он завтра покатается.
Горьковато, конечно, сознавать, что приятели твои сейчас бегают сломя голову, в игры всякие играют, а тебе надо чугун картошки начистить. Но когда из этой картошки шанежек настряпают, ешь ты их с особым удовольствием, а ещё больше радуешься, видя, как уплетают стряпню братик и сестренки.
Вообще с малых лет Егорка уразумел, что семейка у них особенная — целиком трудящаяся, оттого и надёжная.
Тяжелые времена наступали, когда бабка Домна заболевала. Хоть и редко такое случалось, но эти времена Егор Весёлых помнил до сих пор.
Проснутся ребятишки утром, а с печи слышится тихий, виноватый бабкин голос:
— Простите, родимые мои, занемогла. Не могу встать. Придётся мне, старой, сколько-то дней побездельничать. Доставайте-ка из печки кашу, молочко наливайте, ешьте и марш все по своим делам. А мне соседушку позовите, она и меня полечит и обед сготовит. Только не забудь, Егорушка, дровец принести да и водички тоже. Из подполья овощей достаньте, капустки соленой прихватите, постельки застелите да и полы подметите.
Однажды же бабка Домна больше месяца пролежала в больнице, дрогнула вначале семейка, чуть было не растерялась, но ничего-ничего, выдержали, выстояли, по-прежнему выполняли все дела, даже баньку топили по субботам.
Великое это счастье — уметь не сдаваться бедам и трудностям, унынию и безделью.
Зато и быстро летело время-годы, а лето так прямо промелькивало.
Каждую свободную минутку Егорка отдавал своему любимому футболу, хотя играть ему, бедному, приходилось только босиком: бабка Домна обувь в целях, так сказать, экономии прятала.
В своем любимом футболе Егорка не знал никакого удержу. Все ребята уже по домам разойдутся, потому что стемнело, а Егорка и в темноте удары отрабатывает, пока его бабка Домна за шиворот домой не приведёт. И обратите внимание, уважаемые читатели, что удары-то в темноте Егорка отрабатывал… без мяча. Да, да, своего мяча у него не было, зато желания играть было хоть отбавляй, вот он и приноровился — прыгает, бегает, скачет, удары производит словно бы по мячу…