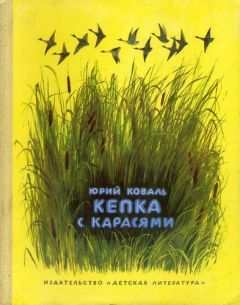Я остался на месте и долго ещё слышал, как дядя Паша ругал сына:
— Тебя мамка ждёт или нет?
Почему-то он особенно напирал на то, что Генку ждала именно мамка, а он вроде бы и не ждал.
— Бать, бать… — послышался в последний раз Генкин голос. — Я больше не буду…
Грошев всё махал брюками над костром.
— Я-то в сторону глядел, — объяснял он Николаю. — Потом смотрю — тебя нет. А ты в картошке лежишь!
— Пыхнула только, — ответил Николай. — А дальше не помню.
Грошев махнул брюками — с костра взлетел пепел, закружились его хлопья, словно моль, серые мотыльки. Сосновые искры потянулись в небо, остановились высоко над костром.
— Дома, — сказал Грошев, — я б сейчас телевизор включил. Семечек насыплю в блюдо и весь вечер сижу.
Он махал брюками и отскакивал от костра, когда искра попадала на голые колени.
— Ну гроза была! Только пыхнула — тебя нет! А ты в картошке лежишь.
— Прям под ноги ударила, — добавил Николай.
— Я давай тебя засыпать. Сыплю, сыплю, а ты не отходишь. Тут этот прибежал с фонариком. Искусственное дыхание, говорит, надо. Ты не врач, а?
— Китель бы мне зашить, — сказал Николай.
Я залез в палатку, устроился рядом с ним, подложил под голову рюкзак.
Грошев перестал махать брюками, надел их, присел на корточки у костра.
— Ну и денёк сегодня был! — сказал он. — Ну и денёк! И ведь утром всё началось. Кудлатый какой-то выскочил из тумана — прямо на меня! Руками машет и кричит: «Леший я, леший!» Морда страшная!
— Да, — вспомнил Николай, — верно. Утром всё началось.
— Что ж, — спросил я, — и ты, Николай, видел лешего?
— Видать-то не видел. Слышал только, как он рычит.
— А я видел, — зашептал Грошев и оглянулся тревожно на тёмный за спиною лес. — Кудлатый, белый. Прямо на меня выскочил. Я хотел врезать ему с правого ствола — осечка! С левого — опять осечка!
Николай, засыпая, дёргался, будто колола его под локти и под колени электрическая искра. Жар костра доходил до палатки, горячил лицо.
— Леший! — всё вспоминал Грошев, глядя в огонь. — Да что же это такое, а?
— Так, — ответил я, уже задрёмывая. — Так, наверное, явление природы.
Ночью задул листобой — холодный октябрьский ветер. Он пришёл с севера, из тундры, уже прихваченной льдом, с берегов Печоры.
Листобой завывал в печной трубе, шевелил на крыше осиновую щепу, бил, трепал деревья, и слышно было, как покорно шелестели они, сбрасывая листья.
Раскрытая форточка билась о раму, скрипела ржавыми петлями. С порывами ветра в комнату летели листья берёзы, растущей под окном.
К утру берёза эта была уже раскрыта настежь. Сквозь ветки её текли и текли холодные струи листобоя, чётко обозначенные в сером небе битым порхающим листом.
Паутина, растянутая в ёлочках строгим пауком-крестовиком, была полна берёзовых листьев. Сам хозяин её уже скрылся куда-то, а она всё набухала листьями, провисая, как сеть, полная лещей.
Найда — это имя так же часто встречается у гончих собак, как Дамка у дворняжек.
Верная примета: гончая по имени Найда всегда найдёт зверя.
Когда я приезжаю в деревню Стрюково к леснику Булыге, у крыльца встречает меня старая Найда, русская пегая. Её белая рубашка расписана тёмными и медовыми пятнами.
— Ей скоро паспорт получать, — шутит Булыга. — Шестнадцать осеней.
Не годами — осенями отмечают возраст гончих собак. Лето и весну они сидят на привязи, и только осенью начинается для них настоящая жизнь.
Про молодую собаку говорят — первоосениица. Про старую — осенистая.
Найда немало погоняла на своём веку и заработала на старости лет свободную жизнь.
Молодые гончие Уран и Кама на привязи, а Найда бродит где хочет.
Да только куда особенно ходить-то? Всё исхожено. И Найда обычно лежит на крыльце, приветливо постукивая хвостом каждому прохожему.
В октябре, когда грянет листобой и начнётся для гончих рабочая пора — гон но чернотропу, — Найда исчезает.
Целый день пропадает она в лесу, и от дома слышен её глухой голос — то ли гонит, то ли разбирает заячьи наброды.
Заслышав её, Ураган и Кама подхватывают, воют, рвутся с привязи, раззадоренные гонным голосом Найды.
К ночи возвращается Найда, скребётся на крыльце, просится в дом.
— Куда-а? — хрипло кричит от стола Булыга. — В дом? Там сиди!
Но после всё-таки открывает дверь, впускает Найду.
Покачивая головой, кланяясь, она переступает порог и, прихрамывая, идёт к печке. Мякиши — так называют подошвы собачьих лап — сбиты у неё в кровь.
Найда ложится в тёплом углу у печки и спит тревожно, дёргается, лает, перебирает лапами во сне — гонит, видно, осенистая.
Гонит, гонит…
— Эй, давай-давай! Догоняй-добирай!
Мы с Булыгой бежим по лесу, кричим-поём, разжигаем собак.
— Где он? Где он? Где он? — на высокой ноте стонет Булыга.
— Вот он! Вот он! — поддерживаю я.
Собаки уж и сами разожжены. Огромный камнелобый Ураган проламывается по кустам, глаза его приналиты кровью; узкокостная, извилистая Кама носится вокруг, нервно дрожит, фыркает, припадая к палому листу.
Вот Кама подаёт голос, короткий, неуверенный. Эту первую фразу гона даже и нельзя назвать лаем. Это возглас. Так охнула бы женщина, уронившая кувшин с молоком: «Ой!»
— Ой-ё-ё-ё-ёй! — сразу подхватываем мы с Булыгой, и где-то в кустах хрипло рявкает Ураган, прочищает горло, утомлённое летним глупым, безгонным лаем.
Кама заливается сплошной трелью, голос её возвышается с каждой фразой, к ней подваливают старая Найда и Ураган —. звенит, бьётся, колотится меж ёлок, разливается по чернотропу по застывающему предзимнему лесу голос гона.
— Напересёк! — кричит Булыга.
— Напересёк! — отвечаю я и бегу куда-то, уж и сам не знаю куда: напересёк, на поляну, на просеку, в березняк, где таится в кустах, где мчится мне навстречу взматеревший осенний беляк.
На рябине, что росла у забора, неведомо откуда появилась белка. Распушив хвост, сидела она в развилке ствола и глядела на почерневшие гроздья, которые качались под ветром на тонких ветвях.
Белка побежала по стволу и повисла на ветке, качнулась — перепрыгнула на забор. Она держала во рту гроздь рябины.
Быстро пробежала по забору, а потом спряталась за столбик, выставив наружу только свой пышный, воздушный хвост.
«Веер!» — вспомнил я. Так называют охотники беличий хвост.
Белка спрыгнула на землю, и больше её не было видно, но мне стало весело. Я обрадовался, что поглядел на белку и вспомнил, как называется её хвост, очень хорошо — веер.
На крыльце застучали сапоги — в комнату вошёл лесник Булыга.
— Этот год много белки, — сказал он. — Только сейчас видел одну. На рябине.
— А веер видел?
— Какой веер? Хвост, что ли?
— Тебя не проведёшь, — засмеялся я. — Сразу догадался.
— А как же, — сказал он. — У белки — веер, а у лисы — труба. Помнишь, как мы лису-то гоняли?
Лису мы гоняли у Кривой сосны.
Лиса делала большие круги, собаки сильно отстали, и мы никак не успевали её перехватить.
Потом я выскочил на узкоколейку, которая шла с торфяных болот, и увидел лису. Мягкими прыжками уходила она от собак. В прыжке она прижимала уши, и огненный хвост стелился за нею.
— А у волка хвост грубый и толстый, — сказал Булыга. — Называется — полено.
— А у медведя хвостишко коротенький, — сказал я. — Он, наверное, никак не называется?
— Куцик.
— Не может быть!
— Так говорят охотники, — подтвердил Булыга. — Куцик.
Этот куцик меня рассмешил. Я раскрыл тетрадку и стал составлять список хвостов: веер, труба, полено, куцик. На рябину тем временем вернулась белка. Она снова уселась в развилке ствола и оглядывала ягоды, свесивши свой пышный хвост — веер.
Был конец октября, и белка вылиняла уже к зиме. Шубка её была голубая, а хвост — рыжий.
— Мы забыли зайца, — сказал Булыга.
А ведь верно, список хвостов получался неполный. Зайца забыли.
Заячий хвост называется — пых.
Или — цветок.
С первыми холодами в Оке стал брать налим.
Летом налим ленился плавать в тёплой воде, лежал под корягами и корнями в омутах и затонах, прятался в норах, заросших слизью.
Поздно вечером пошёл я проверить донки.
Толстый плащ из чёрной резины скрипел на плечах, сухие ракушки-перловицы, усеявшие окский песчаный берег, трещали под сапогами.
Темнота всегда настораживает. Я шёл привычной дорогой, а всё боялся сбиться и тревожно глядел по сторонам, разыскивая приметные кусты ивняка.