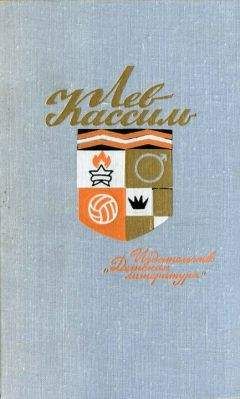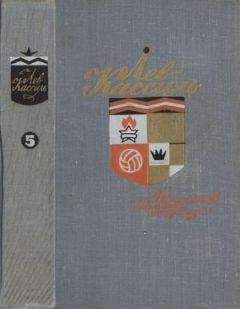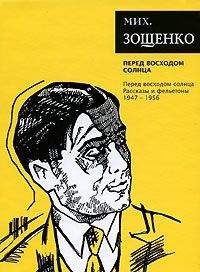— Что случилось? Который час? Почему вы поднялись среди ночи все? И зажгите хоть свет… Наташа! Коля! Катя! В чем дело?
Наталья Николаевна кинулась к мужу, взяла его ладонями за виски, заглянула близко в лицо.
Коля понял: папа ослеп.
Врачи утешали, что это временное явление: сами по себе глаза в порядке и зрение, надо думать, вернется. Но Коля с тоскливым ужасом всматривался в лицо отца, в его знакомые, но теперь незрячие, потерявшие прежнее выражение глаза и просиживал часами возле его постели.
А болезнь затянулась. Страшно было подумать Коле, что отец уже никогда не посмотрит на его рисунки. И само рисование вдруг показалось Коле теперь бессмысленным, никчемным. Ведь папа всегда был самым лучшим зрителем и советчиком! Стоит ли вообще теперь заниматься всем этим? И Коля раза два уже пропустил занятия в художественной школе.
Должно быть, узнали про беду у Стригановых. Женьча пришел вечерком в субботу, потоптался, потом поманил Колю в переднюю:
— Слышь, Коля… Только ты давай по-простому, знаешь, чтобы без всяких там извольте-позвольте да извини-подвинься… Ладно, Коля? Условились?
— А в чем дело? — насторожился Коля.
Тогда Женьча, неловко откашлявшись, протянул ему руку, разжал ее — на широкой ладони его, плохо отмытой, с въевшимся металлическим порошком, лежали скомканные десятирублевые бумажки.
— Может, возьмешь? У меня как раз получка. А тебе на красочки пригодится. Ведь вам сейчас туго. А, Коля? Ты не думай, я и папане сказал. Он говорит: правильно поступаешь. Ты бери, бери. С отцом пройдет все, тогда отдашь, не сомневайся. Торопить не стану.
Коля взял его за руку, медленно, но настойчиво загнул ему пальцы, придавил их крепко к ладони поверх денег:
— Спасибо тебе, Женя… Надо будет — попрошу…
Как-то Наталья Николаевна, усталая, изглоданная тревогой и сама чувствуя нездоровье, долго смотрела на Колю и Катюшку, готовивших школьные уроки.
Федор Николаевич спал. В комнате было очень тихо. И жгучая тревога за детей вдруг проняла усталое сердце матери.
— Что же будет? — шепотом сказала она. — Я что-то себя так плохо чувствую… Папа не работник… А что, если вы останетесь одни?..
Катя, краснощекая, крепенькая, подошла к матери с серьезным, торжественно нахмуренным личиком, взяла ее за руки:
— Мама, ты зря все это… Во-первых, все еще будет хорошо. И не выдумывай, пожалуйста. А если уж вдруг случится… Так что ж, мы пропадем разве? Ведь у нас такие люди, мамочка, что одних не оставят. А Колька вон рисует хорошо. Будет заказы брать в случае чего. Я умею стирать, готовить.
Коля угрюмо молчал.
— Ну, а ты, Коленька, как считаешь? — осторожно спросила его Наталья Николаевна.
Коля все молчал.
— Что ж ты молчишь, Коленька?
— Есть вещи… — проговорил Коля, и голос его надорвался, — есть вещи, которые я не могу, не хочу себе представить…
И, отвернувшись, он быстро вышел из комнаты.
Мать выбежала за ним и нашла его в парадном. Он стоял на холодной лестнице, прижавшись лбом к стене. Она обняла его, потянула к себе, и он припал мокрой щекой к ее щеке, весь вздрагивая и прерывисто шепча ей под ухом:
— Никогда больше так не спрашивай, прошу тебя! Ведь я не могу же себе представить просто так… Я же сразу все вижу глазами…
Трудно было теперь Коле отвечать на расспросы Федора Николаевича о том, как идут занятия с Перуцким.
Прежде, бывало, Коля в ответ быстро набрасывал на клочке бумажки схему того, что он рисовал в школе. А сейчас надо было пересказывать это словами, долго объяснять, какая была модель, где что стояло. Но папа внимательно слушал и не забывал вечером спросить, что новенького было сегодня на занятиях. В эти дни Коля жалел, что он бросил учиться музыке. Вот он мог бы сыграть — отец слушал бы и радовался его успехам.
А сейчас папа должен был принимать все лишь на веру и, должно быть, сам очень мучился, что не может своими глазами следить за ученьем сына.
Кира, дружба с которой была сейчас ему особенно нужна, очень удивилась, когда однажды, вернувшись домой, услышала в комнате, где ждал ее Коля, приглушенные звуки рояля. Коля, передвинув модератор, тихонько проигрывал гаммы… Он отдернул руки от клавиатуры, едва Кира вошла в комнату.
— Решил опять заниматься? — спросила она.
Коля покачал опущенной головой:
— Нет… это я так. Хотел проверить, все ли забыл… Помнить-то помню, да руки совсем как деревяшки. Зря я бросил это… Поиграл бы сейчас для папы… А то…
Он поделился с Кирой всеми своими смятенными мыслями. Она, кажется, поняла все, задумалась. Потом вдруг откинула назад голову, зажмурилась и, не открывая глаз, быстро сказала:
— Если он тебе верит, как я, вот… так, хоть и не видит сейчас, все равно знает, что ты для него стараешься. Он же должен чувствовать, какой ты у него…
Многое прочла она в благодарном взгляде, который почувствовала на себе еще до того, как, проговорив все это, открыла глаза…
Воскресным утром в гости к Женьче пришел крепко сбитый, наголо остриженный мальчуган в военной гимнастерке с алыми погонами. Это был музыкантский воспитанник Андрей Смыков. Приемный сын гвардейского полка, он был прислан учиться в музыкальной школе. Ребята всего двора сбежались слушать его рассказы о том, как он сам воевал на Первом Украинском фронте.
— И за это я имею благодарность от высшего командования, — говорил хриплым баском Андрей Смыков.
— Ух, здо́рово! Лично ты? — изумлялся Женьча.
— Так в приказе было, — отвечал Андрей Смыков. — Всем войскам фронта. Значит, и лично я, получается.
И позавидовал же ему Коля! Вот этот даром времени не терял. Сам бывал в боях, а теперь учится играть на трубе. А когда кончится война и будет снова парад на Красной площади, Андрей Смыков, конечно, будет там и труба его запоет перед строем героев…
Коля очень любил музыку — «сестру живописи», как сказано было в книжке Леонардо да Винчи. Он мог часами стоять, припав ухом к приглушенному репродуктору, слушая передачу какого-нибудь большого концерта. В тот день, когда он вернулся со двора после встречи с Андреем Смыковым и долго читал вслух папе «Петра Первого» Алексея Толстого, и толпились у него перед глазами в красивых кафтанах не нашего времени люди, о которых говорилось в книге, по радио передавали «Реквием» Моцарта. Прервав чтение, долго слушали отец и сын музыку. Полная безмерного горестного величия, она печалилась об утратах, утоляла великую скорбь мира и колыхала его мощным шагом неоскудевающей жизни. А когда затем папа заснул, Коля отошел на цыпочках к своему столику и долго сидел там, молчаливый и сосредоточенный, трудясь над какой-то новой композицией.
— Коля, ты здесь? — спросил, проснувшись, папа. — Что ты там делаешь?
Коля быстро убрал рисунок под книги, как будто папа мог взглянуть на него.
— Так, кое-что рисовал. Хочу вот к «Петру Первому» иллюстрации сделать про ассамблею.
И, чтобы не чувствовать себя вралем, он действительно начал набрасывать на новом листе саженную размашистую фигуру Петра Первого и стриженых, безбородых бояр, одетых в немецкое платье…
Часто, держа перед папой невидимый для него новый рисунок, Коля беззвучно повторял про себя, как заклинание: «Увидь! Ну увидь!» Ему так хотелось, чтобы папа снова видел, что он уже иногда начинал верить в неодолимую силу своего желания, перед которым должна была, как ему казалось, разверзнуться тьма, закрывавшая его от глаз отца.
И пришел день, когда невидимая тьма эта пала. Сперва вечером отец, повернувшись лицом к настольной электрической лампочке, вдруг неуверенно сказал:
— Погодите… дорогие! Я, кажется, начинаю видеть.
Доктор велел еще три дня полежать ему в темноте, а на четвертый день Федор Николаевич уже действительно видел. И, наглядевшись досыта на родные лица обступивших его Натальи Николаевны, Коли, Кати, Федор Николаевич попросил:
— Колюшка, ты бы дал мне посмотреть… — Он с особым, проникновенным выражением произнес это слово, долго бывшее для него непроизносимым. — Дал бы ты мне посмотреть, — повторил он, — что ты за это время успел.
Были тут показаны очередные школьные работы и свободные зарисовки, метко схваченные внимательным глазом, закрепленные окрепшей рукой на бумаге сцены трудовой и повседневной жизни обыкновенных людей. Прачечная, куда посылала Колю во время болезни отца мама. Рабочие, идущие со смены. Старушка с кошелкой. Москвичи, любующиеся на сквозном мартовском ветру у парапета набережной ледоходом. Показал Коля большую иллюстрацию, сделанную им к «Петру Первому», к тем самым главам, которые он читал вслух отцу. Подивился Федор Николаевич, как за то время, пока он не мог видеть работы сына, окрепла рука и осмелело воображение настойчивого рисовальщика.