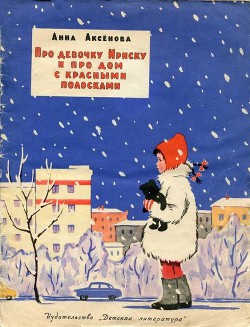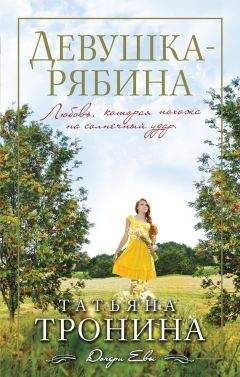уроки. Вовка писал сочинение, что-то шептал про себя, черкал… Мать возилась на кухне, бренчала посудой. А потом из кухни потянуло знакомым. Митька насторожился, принюхался. Пахло жареной рыбой. Но здешняя рыба пахнет по-своему, а у этой был нежный речной запах.
И сразу припомнилось, как, бывало, мать жарила на загнетке карасей, которых приносил он с Вороны, как крутился возле его ног, жадно урча, Мурец, как отлично было, назябнувшись на реке, разуться, прошлепать босиком по чистым, сухим половицам, ощущая каждой жилочкой, как вливается в тебя домашнее тепло… И Вовка там был не такой, как здесь. Там они вместе гоняли по лесу, вместе с ребятами прятались вечером за гумнами, чтоб подольше не идти домой. Вспомнился Ваня, который всегда первым вылезал из убежища, а ребята всегда ругали его за это… Вспомнилась Тая. Как стояли они тогда на берегу ручья, и в ручье было видно царапину на коленке. Как вечерами загоняли они коров по домам. И воздух был теплый, пропахший парным молоком. А в сумерках светилось Таино платье…
Он очнулся и увидел, что сидит, уставившись в окно. Вовка все так же строчит в тетради. А за окном небо — серое, низкое, как крыша. И как через худую крышу льет бесконечный тягучий дождь.
Откуда-то на Митьку свалилась тоска. Она ныла в груди, как ноет больной зуб. Он встал, прошел по комнате, заглянул к матери на кухню, выпил воды. Тоска не проходила. Тогда он вырвал из тетради листок и подвинул к себе чернильницу.
— Сочинение? — озабоченно спросил Вовка.
— Ага.
Здравствуй, Тая!
Как вы все там живете? Ты извини, что долго не писал, все некогда было. Теперь я уже на все насмотрелся и ничего мне уже больше не надо. Эх, были бы у меня крылья, полетел бы домой. Как там у нас все? Какие изменения? Ты мне все подробно опиши, мне здесь про все интересно знать. Вернулся ли твой отец? Еще тебя прошу — узнай у Вани, нашел ли он крючки в коробке от монпансье, которые я ему под крыльцо засунул, когда уезжал. А то, может, они там все заржавели. И еще просьба: сходи к бабке Настасье, узнай все про Мурца, а то она письмо прислала, а про вето ни слова, как будто его и на свете нет. А может, он от нее сбежал? С ответом не задерживай и пиши побольше. Всем ребятам привет. А если кто хочет — пусть мне напишет, я сразу отвечу.
Дмитрий. 22 октября 1966 г.
Он выбежал на лестницу, чтоб поскорее отправить письмо. В это время на лестницу вышла Кира со своим отцом — морским офицером. И наверное, оттого что они были вместе, Митька вдруг сразу узнал их. Это были те пассажиры с поезда, которых он видел у себя на станции, когда торговал ягодами. Митька так растерялся, что забыл поздороваться, Кира сама сказала:
— Папа, вот это и есть Митя.
— Очень приятно, будем знакомы, — сказал Кирин отец и протянул руку. — Михаил Николаевич.
— Дмитрий, — едва шевеля пересохшими губами, сказал Митька.
Они вместе вышли на улицу и тут расстались.
— Заходите в гости, будем рады, — приветливо сказал Михаил Николаевич. Они с Кирой свернули в боковую улицу, а Митька пошел прямо, к почте.
Но это только так говорится — пошел, потому что Митька не шел: его ноги едва касались земли. Он прекрасно понимал, что сейчас с ним случилось чудо. Думал ли Митька полгода назад, когда глядел на них с пыльной платформы, что будет жить с ними в одном городе? А теперь не то что в одном городе — в одном доме живет, дружит с Кирой, ходит к ней за книгами. Значит, не перевелись чудеса на свете? Значит, впереди у Митьки возможны тысячи чудес? А может, они уже были, только он не понял, вот как с Кирой? Ну, конечно же! Разве не самое главное чудо, что ему повезло родиться здесь? А родись он в каком-нибудь Париже, разве знал бы он всех, кого он знает? Знал бы он, что есть такое место — маленькая деревенька в Орловской области — Зеленый Шум? Самое лучшее в мире место.
С завтрашнего же дня Митька начнет собирать макулатуру, кости там разные, чтобы летом во что бы то ни стало поехать туда.
И оттого что это непременно так и будет, ему захотелось закричать на всю улицу, на весь белый свет. Но… не больной же он — кричать. И тогда Митька свистнул, сорвал шапку, крутанул ею над головой и прямо по лужам помчался вперед, размахивая синим конвертом.
— Хоть свет мальчишка повидает, — укладывая в чемодан белье, сказала мать.
— Свет! Свет — это люди. А он с людьми жить не умеет.
— Интересно, что ты имеешь в виду? — подняла голову мать.
— Только то, что сказал.
Отец посмотрел на Генку:
— Ну-ка скажи, сколько у тебя друзей?
— Где, в классе?
— В классе, дома.
Генка стал вспоминать. В классе? В классе… был Юлиан Виноградов, вместе в шахматы играли, так он уехал. С Вовкой Козлом недавно поссорились. А про двор говорить нечего. С кем дружить? Взять того же Костьку — хулиган. Никита, тот вечно своими братьями занят. Остальные мелюзга, в счет не идут.
— Ну вот, — сказал отец, — а я о чем говорю? Парню двенадцать лет, а он вспомнить не может, есть ли у него друзья.
— Мне кажется, повышенное требование к дружбе у ребенка…
— «Повышенное»! — усмехнулся отец. — Ладно, пусть едет, может, чему-нибудь научится. Сомнительно, правда.
Странный отец. Сначала он ни за что не хотел, чтоб они на курорт ехали. «И здесь летом люди живут, не жалуются». Генка же, узнав, что они поедут к Черному морю, до смерти обрадовался. Только сейчас он понял, как скучен и неинтересен их маленький северный городок. Там пальмы, эти… как их, эвкалипты. А тут… Генка посмотрел в окно.
— Что ты все дома сидишь? — сказал отец. — Вон погода какая, иди побегай хоть.
— Мам, я пойду? — спросил Генка.
— Иди, только далеко не уходи.
Никитка со своими братьями, которые попадались на каждом шагу, так что Генка никак не мог сосчитать, сколько же их, сидел на лавочке и читал вслух. Двое малышей тесно прилепились к нему, остальные копошились в песочнице.
Огненно-рыжие, крапчатые от веснушек, они напоминали крепенькие грибы