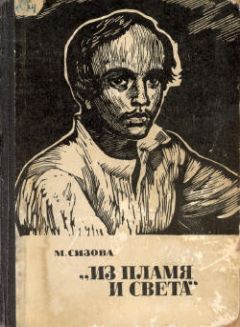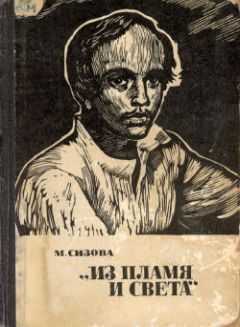— Хорошие стихи, — сказал Раевский тихо. — Не правда ли?
Мишель вздрогнул и закрыл тетрадь.
— Ты забыл, что от меня прятать ничего не нужно, — улыбнулся Раевский. — Я эти стихи Рылеева давно знаю и, пожалуй, помню наизусть.
— Замечательные, замечательные стихи!
— Да-а… — проговорил, задумавшись, Святослав Афанасьевич. — Ежели хочешь, я расскажу тебе о Кондратии Федоровиче как о человеке — все, что знаю сам. И о нем и о его друзьях и единомышленниках. Ты теперь уже все поймешь.
— Неужели вы его знали?
— Лично нет. Но о нем многое слышал и узнал.
— А когда вы мне расскажете? Сейчас? Или вечером?
— Нет, вечером нынче я занят, а сейчас нас обедать позовут. Вот после обеда, если у тебя есть время, расскажу.
— Есть, есть время! Конечно, есть! А можно вас сейчас спросить об одном?
— Конечно, можно.
— Вот я тут одно стихотворение прочел, — указал он на раскрытую страницу, — оно посвящено В. Н. Столыпиной. Это кому же? Матери Алеши Столыпина?
— Ну да, конечно, ей!
— А почему ей? И почему Рылеев пишет:
И смело скажем: знайте, им
Отец Столыпин, дед Мордвинов…
— А вот когда я тебе о друзьях Рылеева расскажу, тебе и это понятно будет. Пока же помолчим об этом — звонят к обеду.
— Вот видишь, Мишенька, — сказала ему бабушка за обедом, — от завтрака отказался, а теперь и бросился на суп так, что и обжегся и закашлялся. Это, верно, тебе перец в рот попал. Надо осторожнее, дружок.
— Нет, бабушка, это не перец… А только велите, пожалуйста, поскорее подавать дальше.
— Вот что значит голод-то! — рассмеялась бабушка.
Миша посмотрел на Раевского, тот — на него. Наскоро пообедав, они оделись и вышли на улицу.
— Здесь лучше говорить! — сказал Миша, шагая рядом с Раевским по хрустящему крепкому снегу…
. . . . . . . . . .
Вернувшись домой, Миша не зашел ни в столовую, ни к бабушке, а поднялся прямо к себе наверх.
Не все понял он в рассказах Раевского, но он чувствовал сердцем, что они были правы и святы — эти удивительные люди, отдавшие свою свободу и счастье за свободу и счастье народа. И он с гордостью вспомнил слова Раевского: «Твой дед, Мишель, брат твоей бабушки, Аркадий Алексеевич, был человеком выдающимся и по уму и по благородству мыслей, по неподкупной своей честности и справедливости. И те люди, которые привели войска на Сенатскую площадь четырнадцатого декабря, не только уважали твоего деда, но и хотели видеть его членом нового правительства российского. И отец его, Мордвинов, родной дед твоего юного дядюшки Алексея, был таким же. Вот почему о них и писал Рылеев…»
О, как ужасно, что он был еще слишком мал, когда совершилось это великое событие, и не мог быть его участником! Он мысленно видел себя во главе полка, стоящего с развернутыми знаменами на Сенатской площади. Вот он дает команду: «За мной!» — и во главе своих солдат бросается на защиту Рылеева, на защиту Пестеля… Но все кончено: они обезоружены, и его вместе с ними ведут в каземат, в Петропавловскую крепость, но он требует, чтобы его отвели сначала к царю, и, став лицом к лицу с Николаем Первым, громко говорит: «Ваше величество, возьмите мою жизнь, но их отпустите! Неужели вам мало одной моей жизни?..»
Ах, господи! Надо еще к завтрашнему дню три задачи решить Перевощикову!.. Он забыл сегодня обо всех уроках!..
И уже слышится осторожный стук в его дверь и голос бабушки:
— Мишенька, пора лампу тушить! Завтра рано вставать надо. Ложись, Мишенька!
На всю Поварскую и на обе Молчановки славился гостеприимный дом Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.
На рождестве по вечерам кружились там в танце по блестящему паркету столыпинские, арсеньевские, верещагинские сыновья, дочки, внуки и племянники. В новогоднюю ночь из открытых саней и закрытых карет со смехом и шумом вылезали ряженые. А там уже ждали свои ряженые, и арсеньевский внук Лермонтов Миша встречал гостей. Полы дрожали от беготни и танцев.
Весной из открытых окон раздавались веселый смех, пение и молодые голоса:
— Мишенька! Миша! Мишель!
Смуглый, черноволосый внук Елизаветы Алексеевны, отзываясь на эти голоса, появлялся то в доме, то в саду — небольшая, крепкая фигурка его мелькала повсюду.
Но бывало и так, что на долгие зовы не отзывался никто, и после криков и поисков Мишу находили в беседке, откуда он выбегал, пряча в карман какие-то записочки. Тогда кузены и кузины кричали друг другу:
— Мишель новые стихи сочинил!
— И спрятал!
В таких случаях Мишель, посмотрев на всех исподлобья, убегал в дом, пролетал через сени и, взбежав по лестнице к себе в мансарду, повертывал ключ в двери.
После этого никакие уговоры не могли заставить его выйти или отпереть дверь.
Вечерами к запертой двери нередко поднимался по лесенке Раевский. На его условный стук дверь быстро открывалась и, пропустив его, снова захлопывалась.
— Что нового, Мишель? Как занятия и как стихи? Есть что почитать? — Раевский подсаживался сбоку к маленькому столу.
В один из таких вечеров Миша вынул из ящика стола тетрадь.
— Ого!.. — проговорил Раевский, заглянув в нее. — Да это целый сборник!
— Да, это рукописный сборник моих стихов. Я его никому не показываю и не покажу.
— А зачем же тогда сборник, Мишель?
— Не знаю, он как-то сам собой составился. Тут только мелкие стихотворения этого года. Вот оглавление.
— А как ваша школьная «Утренняя заря»? Сколько номеров вышло?
— Немного. Сейчас я пишу для другого пансионского журнала, куда даже Раич дает свои вещи. И если бы вы знали, какие замечательные литературные вечера проводит с нами Раич! Он читает нам свои переводы Вергилия и стихи Жуковского! Но у него есть и свои.
В эту минуту в коридоре началась такая возня, что казалось, дверь слетит со своих петель. А так как дверь все-таки не отворилась, то несколько голосов прокричали хором из коридора:
— Мишель! Миша! Йогель приехал!
— Мы идем на урок танцев!
После этого все умолкло, а через несколько минут внизу раздалась музыка кадрили.
Миша быстро убирает свой рукописный сборник и, посмотрев на Раевского, умоляющим голосом говорит:
— Там Йогель! Пойдем?
— Пойдем, хотя я и не охотник до танцев.
Но Миша уже не слышит ответа: он слетает по лестнице и, стремительно вбежав в большую, так называемую «синюю гостиную», подбегает к Сашеньке Верещагиной и, крепко сжав ее руку, говорит грозно:
— Только со мной!
— Хорошо, — капризно и весело отвечает Сашенька. — Но за это вы мне скажете, о чем вы так много разговариваете с Раевским?
Глаза Миши становятся сразу серьезными:
— Об этом я не могу сказать никому, даже вам! В целом мире — никому!
— Конечно, Павлов! Кого же с ним можно сравнить? Это ум всеобъемлющий!
— А Перевощиков — не всеобъемлющий?
— Перевощиков — чистый математик…
— А Павлов — специалист по физике и сельскому хозяйству.
— Ну и что же! Он читает нам не просто физику, а философию физики, каждая его лекция обогащает ум, потому что он стремится раскрыть нам самую сущность явлений.
— А почему же ты не упоминаешь ни о Мерзлякове, ни о Раиче?
— Ну, это совсем другое! Они оба словесники и поэты, но не философы.
— А что такое философия и что такое поэзия? Истинный поэт всегда мудрец и философ.
— Господа, Лермонтов прав: поэт, по существу, мудрец!
Как это у тебя сказано, Миша?
Таков поэт: чуть мысль блеснет,
Как он пером своим прольет
Всю душу…
Такие споры вспыхивают после каждой лекции четырех любимых преподавателей: Перевощикова, Павлова, Мерзлякова и Раича.
Сегодня лекция Павлова.
После звонка мгновенно смолкают и голоса и шарканье ног. Глубокая тишина встречает появление Павлова на кафедре. У него немного утомленное и бледное лицо.
Он окидывает быстрым взглядом аудиторию, поднимает руку и начинает говорить.
Кончив лекцию, Павлов быстро сходит с кафедры и скрывается в учительской.
В аудитории поднимается гул. Ученики вскакивают с мест, обмениваясь мнениями.
Лермонтов встает и отходит к окну, где мигают под порывами ветра дрожащие огни уличных фонарей.
Группа учеников останавливается в стороне.
— Почему он вечно ищет уединения?
— Потому что горд и холоден и относится ко всем с непонятным высокомерием. Никакой талант не дает на это права!
— Лермонтов холоден? — с негодованием восклицает Сабуров. — Да я не знаю во всем нашем пансионе никого отзывчивее и великодушнее его! Лермонтов добр и предан своим друзьям! Но нужно быть его другом для того, чтобы его узнать.