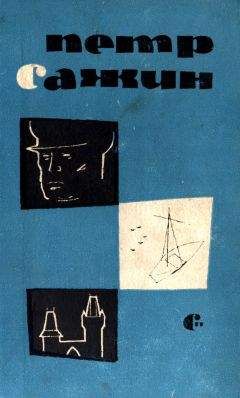А Валентина ходила задумчивая, озабоченная.
Миньона стояла на её столике возле кровати, вся в цветах, и улыбалась ей своим прелестным лицом.
Наконец родители Валентины приехали, как всегда, в город, стали брать дочь к себе и в оперу, и Валентина повеселела.
Однажды — дело было уже позднею осенью — Валентина вернулась в общежитие в девятом часу вечера, возбужденная, но молчаливая. Она бродила одна в пустой спальне, пока другие сидели еще за чаем в столовой, и напевала про себя какую-то песенку. Тея позвала ее пить чай, она подошла к двери и кратко сказала:
— Я уже пила.
Но когда все улеглись, когда все успокоилось, — что тогда рассказала Валентина!
Комар, Люся и Мурочка сидели у неё на постели, завернувшись в одеяла, и слушали, и ахали, и завидовали.
Но прежде всего Валентина взяла клятву, что они никому никогда не откроют её тайны. И они поклялись.
Онегина сидела в своем голубом атласном кабинете, когда вошла горничная и доложила, что та барышня, которая принесла на днях пакет и убежала, опять пришла и просить позволения войти.
Онегина удивленно приподняла свои красивые брови, закрыла книжку и проговорила:
— Пусть войдет.
Перед нею стояла девочка-подросток в черном платье и черном переднике, в черных чулках и башмаках, в черной шляпе.
— Что вам угодно? — спросила Онегина, движением руки указывая ей низкое голубое кресло.
Валентина смущенно села, и подняла глаза, и увидела свое великолепное полотенце на спинке голубого дивана.
Она застенчиво улыбнулась и сказала:
— Оно вам понравилось?
— Так это ваша работа?
— Моя… то-есть все равно, что моя. Я хотела познакомиться… сказать вам… я всегда, всегда восхищаюсь… и третьего дня я видела вас в опере. Она смотрела на певицу глазами, в которых выражалось безграничное обожание.
— Вы любите пение?
— Ах, как же не любить! А вы… вы…
Онегина улыбнулась и, взяв со стола коробку шоколадных конфет, протянула ее Валентине.
— Возьмите, пожалуйста… не знаю вашего имени.
— Я Валентина Величко. Мой отец помещик украинский… Когда папа и мама приезжают, они всегда берут меня в оперу… Я все слышала, почти все… Мне кажется, нельзя петь лучше, чем вы… когда вы поете, — все, все за бываешь… У меня есть ваша карточка, Миньона. Целый день на вас смотрю.
Онегина с любопытством смотрела на раскрасневшуюся девочку.
— Спасибо моя хорошая. А я и не знала, что у меня есть такая поклонница… Если хотите, могу вам подарить еще какой-нибудь портрет.
— Ах, пожалуйста!
Онегина встала и пошла к резной этажерке, заставленной безделушками. Валентина, вся пунцовая от волнения, сняла шляпу и стала рассматривать комнату. Везде были живые цветы, — розы, белая сирень, нарциссы, от них так хорошо пахло. Потом был на стене серебряный венок, перевитый голубой лентою, с надписью; на столах лежали альбомы.
Громкий звонок заставил ее вздрогнуть. Она побледнела.
— Я уйду, — прошептала она испуганно. Онегина удержала ее за руку и сказала:
— Не бойтесь. Это, должно-быть, мои детки. Пойдемте их встречать.
Через залу и богатую столовую они вышли в прихожую. Там они застали старушку-нянюшку и двух детей, которые были одеты одинаково в белые шубки и белые шапочки. Увидев мать, они побежали к ней и вцепились в её платье. Прекрасное лицо Онегиной озари лось счастливой улыбкой, она нагнулась к своим малышам и поцеловала их в румяные щечки.
Валентина стояла и дивилась.
Дети вытаращили глазенки на черную барышню и не хотели раздеваться. Но няня усадила их на скамеечку и раздела; мальчик и девочка побежали со всех ног через большие комнаты к себе в детскую.
— Хотите, пойдем к ним? Они сейчас будут завтракать.
Валентина была на все согласна, только бы видеть ее и слушать её речи.
Итак, они пошли в детскую. Там стояли две кроватки, большой низкий стол и такие же низкие стулья. Нянюшка кормила детей рисовой кашкой, а мать стояла и рассказывала Валентине, какие шалунишки её детки.
Валентине странно было видеть Миньону в этой домашней обстановке. Ведь она воображала, что увидит ее в каком-нибудь сказочном наряде, за роялем, за пением, а эта красивая женщина в белом домашнем платье была у себя дома не принцесса и не волшебница, а просто счастливая и добрая мать.
Она обняла Валентину (как она задрожала от счастья!) и сказала, нагнувшись к ней:
— Отчего вы в трауре?
— Сестра моя Гандзя умерла, — сказала Валентина дрогнувшим голосом.
Онегина провела рукою по её волосам, таким густым и темным.
— А ваши знают, что вы пришли ко мне?
— Нет.
— Нехорошо!
— Ради Бога, не сердитесь! Я потом сама скажу им, все скажу, только не гоните меня.
Опять раздался звонок.
— Я теперь пойду, — заторопилась Валентина.
— Карточку вы хотели.
— Ах, пожалуйста…
Вот и все. Чудный сон окончился. Валентина с пылающими щеками уже стоит на улице, с новой карточкой в кармане, и в своем смятении не знает, куда идти… В гимназии еще уроки, да она слишком, возбуждена, чтобы идти в гимназию. Итак, она возвращается в гостиницу к матери и говорить ей, что вернулась потому, что голова разболелась, и все равно учиться нынче не в состоянии. У неё такой измученный вид, что добрая мать укладывает ее на диван за ширмами и ходит на цыпочках, чтоб она уснула. А Валентина лежит с закрытыми глазами, её лицо пылает, она улыбается блаженной улыбкою, и рука её держит в кармане заветный портрет.
Онегина и не подозревала, что каждое её слово, каждая вещица в её комнатах были известны каким-то совершенно чужим для неё гимназисткам, о существовали которых она — знаменитая, счастливая и богатая женщина — и не подозревала.
Но имя её повторялось ими на все лады. Все они знали, что ее зовут Нина Аркадьевна, что она совсем не Онегина, а Соболева; знали, что муж её офицер и, должно-быть, важный, по тому что на его мундире много золотого шитья; знали, что дети у неё — Милочка и Славчик; знали, что она любит шоколадные конфеты, а из цветов — белую сирень…
Для того, чтобы не оставалось ни малейшего сомнения в справедливости всех слов и описаний, Валентина приносила от неё в своем кармане веточки белой сирени и шоколад, и хотя последний появлялся из кармана в до вольно-таки жалком, измятом виде, — все же и Мурочка, и «Комар», и Люся (ночью), и Наташа (в классе) могли попробовать этих конфет и насладиться ими. Остальное добавлялось воображением, и все они мечтали теперь о голубой атласной гостиной и о белых платьях с широкими кружевами.
Портрет Онегиной стоял у Валентины, заменив собою Миньону. На новом портрете она была еще очаровательнее, потому что изображала принцессу с короною в пышных волосах.
По вечерам в спальне долго шептались и разговаривали. В темноте казались еще чудеснее рассказы Валентины. Иногда только Люсенька своею обычною рассудительностью нарушала очарование и говорила, что нехорошо с её стороны обманывать мать и лучше бы уж вместе с нею ездить к Онегиной. Но Валентина вся вспыхивала и шептала возбужденно:
— Да, если б я наверно знала, что папа позволить, — но, может быть, и не позволить, тогда я с горя умру, умру!
— Тише, — дергал ее за руку «Комар».
— Я думаю, лучше поступать открыто, а не исподтишка.
— Может быть, ты уже собираешься вы дать меня? — с ожесточением накидывалась на нее Валентина, а Мурочка шептала:
— Да что ты, разве можно?
— Кажется, знаешь сама, что не выдам, — говорила спокойно Люсенька. — Я только свое мнение высказываю.
Иногда перессорятся и полезут каждая в свою постель, и долго лежат возбужденные, думая об этой удивительной, чудной Онегиной. Иногда же говорят, говорят так, что Доротея Васильевна придет и строго прикажет им идти спать.
Мурочка от путешествий босиком по холодному крашеному полу часто простужалась; у неё поднималась невыносимая зубная боль, и она ворочалась на кровати и тихонько стонала.
Тогда Люся вставала, давала ей одеколону, растирала щеку, обвязывала ее ватою. Люся вообще все больше и больше привязывалась к Мурочке и была с нею, как старшая сестра.
Мурочка любила Неустроеву, но была с нею, как и со всеми, довольно скрытной.
Одному она страшно завидовала — это смелости и энергии Валентины. Разыскать своего ку мира, суметь познакомиться с ним, бывать наперекор всем обстоятельствам и всегда знать, что скоро опять увидишься и наговоришься, — ну, как не завидовать ей?..
Мурочка думала об Аглае Дмитриевне и ломала голову, как бы ей познакомиться с нею, — но ничего не выходило, потому что отлучиться из общежития было немыслимо.
И Мурочка терзалась мыслью, что она раз мазня и мокрая курица, что Флора на её месте наверное нашла бы исход, а она только вздыхает и томится.