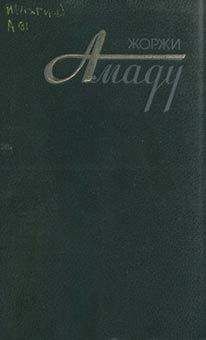Боже, как страшно было, когда батюшка его в воду окунул! Я думала, вот-вот сейчас или утопит, или задавит! Руки y священника большие, положил он Сережу на ладонь, пальцами другой руки заткнул ему живо уши, рот и нос. Бедный Сережа, весь как-то назад изогнулся и стал совсем похож на снятка, как они в супе плавают. Пока его окунают - молчит, но как вытащат, кричит!… Ну, да это понятно, тут удивляться нечему, ему верно, бедному, тоже страшно было! После купания его уже мне на руки положили. Опять страшно: ну, шлепну! Петру Ильичу хорошо, он его в конвертике завернутым держал, a мне его развязанным дали, того и гляди выскользнет.
Пришлось три раза обойти вокруг купели, потом священник велел нам с Петром Ильичем три раза дунуть и плюнуть. Потом… Да, потом еще ребенка чем-то душистым, маслом каким-то мазали, потом… Потом кажется все.
Тут началось поздравление, шампанское. Петр Ильич мне руку поцеловал. Еще бы! Ведь это очень, очень серьезно, это совсем не шутки быть крестной матерью; мамочка объяснила мне, как это важно. Теперь, когда тетя Лидуша умрет… То есть, что я говорю… Сохрани Бог, Боже сохрани, чтоб это когда-нибудь случилось, я только гак говорю, как по закону полагается, - я ему тогда все равно, что мать буду, должна воспитывать, заботиться о нем; - разве это все не важно? Всякий понимает, что да.
За обедом пили за мое здоровье, за здоровье новорожденного. Весело было очень, жаль только, что рано разошлись.
Когда батюшка как-то чихнул и полез в карман за носовым платком, вдруг смотрю - тянет что-то большое, красное с цветами, думала, кусок ситцевой занавески; нет, вижу сморкается. Теперь понятно, что он с моим платком делать будет; - не заваляется, - пригодится.
Болезнь кстати. - Сборы. - Мои мысли и заботы.
A Володя-то наш оказывается преостроумный юноша. Несколько дней тому назад вдруг кхи-кхи - кашлять изволил начать; как будто ума в этом особенного и нет, a вышла одна прелесть. Хоть по календарю y нас и весна полагается, но это еще ровно ничего не доказывает - календарь сам по себе, холод сам по себе; ветрище старается - дует будто зимой, a Володя себе мой разгуливает, a пальтишки-то, знаете, какие y кадет, легонькие, ветром подшитые, вот и простудился.
Сперва мы все страшно перепугались, думали - опять воспаление легких будет, потому, говорят, раз было, того и гляди, второе хватишь; но теперь испуг наш давно прошел, a я, грешный человек рада-радешенька, да и Володька тоже. Послали, конечно, сейчас же за доктором; тот начал стукать, слушать: «Дышите», «Считайте раз, два», всякую такую комедию проделал и сказал, что опасного ничего нет, только все-таки где-то что-то не в порядке, еще не залечилось, a потому нужно его скорей везти туда, где потеплее, - в Крым или Швейцарию.
Ведь эдакий умница доктор! Лучшего он ничего и придумать не мог бы.
Стали папочка с мамочкой судить да рядить и порешили нам троим - мамусе, Володе и мне, ехать в Швейцарию, теперь, сейчас на Женевское озеро, a потом в горы. Ну, что? Разве Володя не молодчина, что закашлял? Я прямо-таки с ума схожу от радости, да и он тоже. Как только нам это объявили, Володька в туже минуту очутился на голове, ноги кверху, каблуками пощелкивает и кричит:
«Да здравствует кашель и славный доктор Образцов! Многая лета!»
Если б к немцам, я бы меньше радовалась, но на Женевском озере ведь все французские Швейцары живут. Вот там смешно должно быть: какой-нибудь дворник или извозчик вдруг по-французски разговаривает, - умора! Чухонка молоко продает, или баба с ягодами придет, тоже по-французски. Чтобы только это одно посмотреть уже поехать стоит. По-французски, по-немецки, все-таки еще как-нибудь можно себе представить, что мужики говорят, но вот по-английски? - этого положительно быть не может. Английский язык такой трудный, такой трудный, что, мне кажется, даже и приличные англичане не очень-то друг друга понимают, притворяются больше, a уж где же мужикам говорить!
Какой в Швейцарии главный город? Вот не знаю. Где же государь-то их живет? Впрочем правда, ведь y них государя совсем не водится, y них и y французов не полагается, просто они сами кого-нибудь себе в старшие производят, оттого тот и называется произведент. Ведь вот отлично все это знаю, a непременно перепутаю; правду мамочка говорит, что голова y меня как решето.
Жаль, что y меня уже есть часы, a то бы я себе сама по своему выбору купила, но уж зато сыр буду есть, всласть покушаю.
Мамочка вчера же была в Володином корпусе, чтобы получить для него разрешение на отъезд за границу, билет там какой-то, a оттуда отправилась, и в нашу гимназию. Мне-то билета никакого не требуется, но все-таки надо, чтоб отпустили, потому y всех уроки еще недели четыре длиться будут, a мы едем через пять дней. Все уладилось, потому баллы y меня годовые имеются, a аттестацию мне выдадут завтра.
В доме y нас возня, суетня, укладывают, покупают ремни, замки, в гостиной стоит корзина в ожидании, пока ее напихают всякой всячиной; ведь не шутка, на четыре месяца уезжаем.
Все хорошо, только Ральфика моего мне до смерти жаль; вон мы с ним только десять дней не виделись, и то как он грустил, тетя Лидуша говорит, что и ел он плохо, похудел, бедненький.
«Еще бы, даже побледнел», сподхватывает Володька: «Цвет лица совсем не тот, куда прежний румянец девался».
Вот уж противный мальчишка!
«Ну, a ты, матушка, хороша крестненькая, нечего сказать, о псе вон как сокрушается, a об крестничке хоть бы вспомянула.
- Вздор мелешь! О Сереже, слава Богу, есть кому заботиться, и папа, и мама, и няня.
«Вот то-то и плохо».
- Что отец-то с матерью есть?
«Няня-то вот эта самая», - таинственно говорит он и делает страшные глаза.
- Ерунда! Ведь не людоедка же она какая, не съест его.
«Хуже, много хуже».
- Ну, ладно, - мели, Емеля, твоя неделя.
«И не Емеля, и не неделя; говоришь вот, потому не знаешь, что однажды случилось».
- A что?
«Да то, что y одного офицера тоже такой вот самый пискленок был. Офицера с женой дома не было, только нянька да младенец. Нянька ребенка молоком напоила, две, a то и три чашки в него влила».
- Ну, это еще не страшно».
«Очень даже страшно, слушай дальше. Напоила, да и стала его качать; качала-качала, a пискленок-то уж и дышать перестал. Тут папахен с мамахен приехали, скорей за доктором. Тот говорит - умер, надо разрезать, посмотреть, что внутри. Открыли, a там большой ком масла, этак фунта полтора. Вот и извольте радоваться.
- Врешь, не может быть.
«Уж может, не может, a было».
Ведь вот врет, наверно врет, a все-таки слушать неприятно. Конечно глупости, ведь всегда ребят качают, да не все же в масло сбиваются… На всякий случай скажу тете Лидуше, пусть не позволяет лишком много трясти его. Бедный Сережа, он теперь ничего, лучше становится, еще побелел, глаза почти вдвое выросли, жаль вот только, голова все голая. Только бы навсегда таким не остался, y тети Лидуши волосы чудные, но y Леонида Георгиевича лысина изрядная, не пошел бы в этом отношении в папашу.
Последний день. - Горе Ральфа. - Володины советы.
Все готово, все уложено, завтра в путь.
Побывала я в последний раз в гимназии, со всеми распростилась и получила свои отметки - два двенадцать и четыре одиннадцать, а за них от папы и мамочки должное вознаграждение. Денежки-то как раз кстати, небось и в Швейцарии и в Берлине найдется, что купить, a мы ведь в Берлине дня на три остановимся, чтобы отдохнуть и все хорошенько посмотреть.
В классе все страшно завидуют мне, что я за границу еду; некоторые девочки понадавали мне своих адресов, просили писать и присылать им cartes postales (открытки (фр.)). Открытками, пожалуй, могу их снабжать, но письмами едва ли; где же там писать? Наверно некогда будет. Любе, другое дело, ей, понятно, нацарапаю все подробно. «Женюрочка» наша тоже кажется собирается летом в Швейцарию, так что, быть может, где-нибудь встретимся.
Покончив все с гимназией, мы с мамусей стали делать прощальные визиты, были y Снежиных, y тети Лидуши, еще кое-где. Когда мы, уже распростившись, уходили от Снежиных и были в прихожей, Саша подошел и сунул мне что-то в руку.
«Только не показывай никому», - говорит.
Вышла на лестницу, смотрю картинка, - венок из незабудок в середине ангельчик, a с изнанки написано: «Муси на памить от любящего ее Саши». - Чудак!
Все мы радостные, веселые, один только бедный мой Ральфик ходит мрачнее тучи. Как только начали корзины да чемоданы упаковывать, так он сразу и загрустил - чувствует бедный песик, что собираются уезжать; я вам говорю, он все, все решительно понимает. Бродит точно в воду опущенный и тихо так; прежде же он ходить не умел, все бегал, так и носился по комнатам, a теперь, если иногда и побежит, то медленно, трюх-трюх, такой мелкой рысцой, вот как усталые лошаденки бегают. A глаза его, если бы вы только видели его глаза! Грустные-грустные, немножко подкаченные, и так-то он смотрит пристально, точно с упреком, иногда даже как-то неловко становится, видно, что его честная собачья душонка болит. Бедный, милый черномазик!