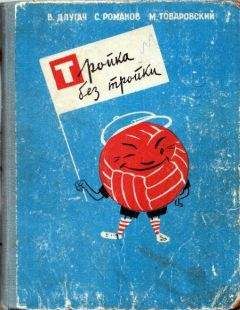Пока она мне всё это рассказывала, достала две тонкие школьные тетрадки. На одной её мелким чётким почерком было написано «Дело отца», на другой — «Дело мамы».
— Я в КГБ ездила. Мне из архива дело отца выдали и дело матери. Посмотреть. Фотографировать не разрешили, полдня сидела — выписки делала. А теперь, видишь, справку получила, что я тоже жертва политических репрессий.
— Погодите, но вы же тогда совсем маленькой были.
— Ну да, мы с мамой в лагерь попали как ЧСИР, когда мне шести лет не исполнилось. В Киргизию.
После долгих уговоров («Не люблю я это время вспоминать, я лучше тебе расскажу, как мы в совхозе жили») она всё же стала потихоньку рассказывать и про лагерь, и про скитания по степи, и про завод-совхоз «Эфиронос». Про друзей — киргизов, украинцев, немцев, про чтение вслух для всех жителей — на двух языках…
В конце концов я убедила её, что всё это надо записывать. Пока неважно как. Как пишется. Главное — всё, что вспоминается, должно быть записано.
У Стеллы Натановны оказался хороший слог, писала она очень подробно и интересно. А вот немецкие и французские сказки, стихи и песенки мне рассказывала и пела, но записывать не стала — забыла письменный немецкий, а по-французски и раньше больше говорила, чем писала.
Потихоньку мы с нею стали обрабатывать эти воспоминания. Отдельные истории публиковали в газетах «Первое сентября» и «Библиотека в школе».
Тем временем вернулся с Севера её сын — тяжело и неизлечимо заболевший. Она стала ездить к нему в больницу: обихаживать, возить еду, доставать лекарства. И так — полгода. С толстой тростью в одной руке и сумкой на колёсиках в другой отправлялась она через весь город в любую погоду. Я боялась, что она сломается.
— Нет, дорогая, помощи мне не нужно. У тебя своих двое… Я справлюсь.
Она справилась. А сына похоронила. Осталась одна.
В стране шла перестройка. Стелла Натановна внимательно следила за происходящим, читала множество газет и журналов, чтобы разбираться, что к чему. Работала как доброволец в обществе «Мемориал», которое тогда занималось помощью жертвам политических репрессий. И понемногу писала. Пять страниц в неделю, что бы ни было, — такую норму она себе поставила. Написать начерно, поправить и переписать начисто.
А однажды у неё на столе появились монитор, системный блок, клавиатура… Стелла Натановна гордо сообщила мне, что выпросила у племянника старенький компьютер и теперь его осваивает.
— Знаешь, в 70 лет это не так легко, как молодым, но у меня уже получается. Вот, смотри, — сама набирала. Надо не позволять себе распускаться, а то сразу одряхлею. Моя мама лежала девять лет парализованная, а с Алькой моим немецким занималась. Вот железный был характер! Умерла, будучи в здравом уме. Мне уже за сорок тогда было. — И улыбнулась. — А догадайся, кто был главный командир в доме? С ней, конечно, иногда было тяжело. Но если бы не её железный характер, неизвестно, что бы со мной стало в те годы.
…На обложке толстой папки с распечаткой воспоминаний её рукой написано: «Стелла Нудольская. НЕ ПОЗВОЛЯЙ СЕБЕ БОЯТЬСЯ. Единственный полный экземпляр».
— Стелла Натановна, а почему «Нудольская»?
— Это девичья фамилия мамы. Пусть будет псевдоним.
А потом она заболела. Стала быстро сдавать, не могла уже сидеть за компьютером, с трудом писала ручкой. Я дала ей самый простой диктофон — две кнопки и кассета — и просила рассказывать вслух всё, что ещё захочет вспомнить. Какие-то истории остались на плёнках, какие-то — вообще только в моей памяти, коротенькими обрывочными фразами.
— Знаешь, как обидно было, когда меня перед всем строем из пионеров исключали…
— За что?
— А я не стала закрашивать портреты в учебнике. Тухачевского и Блюхера. Хорошо ещё, что только исключили. Могло быть хуже. Могли же и маму наказать. Тогда бы нас точно куда-нибудь в Магадан загнали.
— Стелла Натановна, давайте издадим ваши воспоминания. Вот я обработаю записи с диктофона, запишу то, что вы ещё рассказываете…
— Да ну, не надо. Будут очередные рядовые мемуары… кто их читать станет? Столько про это написано, и куда лучше! Знаешь, я о чём мечтаю? Сделай-ка ты из этого детскую повесть. Не для маленьких детей, а для подростков, кто уже что-то понимает. Чтобы как художественная книжка читалась. Только название поменяй. Оно для повести не годится, для мемуаров только.
— Давайте займёмся, — загорелась я.
— Я уже не смогу, — ответила она и вдруг строго добавила: — Пообещай мне, что ты это сделаешь.
Через полгода её не стало. Остались записи. И обещание.
Конечно, раз я взялась делать повесть, пришлось додумывать какие-то диалоги, подробнее прорисовывать характеры и некоторые сцены, дописывать истории. Пришлось перерыть множество материалов, чтобы понять, какая жизнь была в киргизской степи в те времена. Пришлось расспрашивать тех, кто бывал в Киргизии: какая она, эта степь возле гор?
Добавились некоторые второстепенные герои. Например, про Фриду в её устных рассказах было только несколько фраз: «У нас в классе училась девочка из украинской деревни, где почти всех евреев сожгли фашисты. Только несколько человек спаслись. Представляешь, я только от неё и узнала, что такое геноцид. Впрочем, слова такого мы тогда не знали».
Но все факты из жизни этой семьи, все хорошие люди, которые им помогали, и даже сложная история семьи Южаковых — всё — правда.
Однажды я заметила:
— По вашим воспоминаниям получается, будто вокруг вас не было плохих людей. Так ведь не могло быть?
— Не могло, конечно. Всякие, наверное, были. Вон сосед был в Москве, который доносы писал. Но я их почти не помню. Видимо, это свойство детей — запоминать больше хорошее. Пусть так и будет.
Ну что ж, пусть так будет, решила я и тоже не стала вводить в повесть плохих людей. Вот только Алтынбек как-то затесался.
А ещё Стелла показывала мне фотографии. Вот какими они были на самом деле — Стелла, мама, папа, Уляша.
Нет фотографий Южаковых, нет няни, нет Федосьи Григорьевны и доктора, который спасал Стеллу от тифа. Нет Сапкоса, Фриды, Эли Берг. Но это и к лучшему. Ты можешь, дорогой читатель, представить их такими, какими они увиделись тебе в этой повести.
Спасибо, что ты дочитал эту историю до конца.
Ольга Громова Москва, 2013
В переводе на метрическую систему мер и весов Стелла при рождении весила 1,95 кг. (Здесь и далее примеч. автора.)
Целлулоидом в 1930-е годы называли то, что сейчас мы называем пластмассой или твёрдым пластиком.
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел; так же в просторечии называли местные отделения милиции.
Тогда город Фрунзе был столицей Киргизской ССР, входившей в состав Советского Союза, сейчас этот город — столица Кыргызстана (Киргизии) — называется Бишкек.
Баллада А. К. Толстого «Василий Шибанов».
Так называется это поселение на картах СССР 1939 года. Сейчас этот населённый пункт в Киргизии называется Кара-Балта.
Есть (южн.).
Загнётка — место перед устьем русской печи; в других местах его называют «шесток».
Так кратко называлась реформа сельского хозяйства, которую в 1906 году начал председатель Совета министров П. А. Столыпин. В частности, благодаря этому крестьянам стало проще и выгоднее приобретать в собственность землю, особенно в неосвоенных областях Российской империи.
Я по-русски не понимаю (кирг.).
Калым (тюрк.) — в Средней Азии и на Кавказе — традиционный выкуп за невесту, который выплачивают перед свадьбой её родственникам.
С 1930 по 1966 год колхозникам не платили зарплату, при этом они были обязаны отработать определённое количество времени на общих работах. Объём работы исчислялся в трудоднях, и соответственно количеству трудодней между колхозниками распределялся доход колхоза. Фактически это была несправедливая система, так как чаще всего довольно тяжёлый труд оценивался очень низко.
Сейчас (укр.).
Альчики — киргизская игра в кости, отдалённо напоминающая городки.
Гайкать (укр.) — носиться сломя голову.
Каймак (кирг.) — кисломолочный продукт из топлёных сливок, нечто среднее между сметаной, творогом и сливочным маслом.