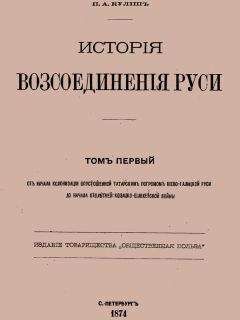Омелько припал к стремени Палия и жалобно стал выкрикивать на всевозможные лады:
— Семен!..Семен… Сними свой червонный жупан, — он вымок в крови… Возьми лучше мою рваную свиту… Далекая дороженька… и свита зачервонеет…
Палий шевельнул поводьями, и конь его рванулся вперед. Вслед за ним поскакали и казаки.
Оставшиеся в усадьбе обступили юродивого и, позабыв, что этот несчастный всегда болтает одно и то же, старались найти в его бессвязном лепете таинственный, сокровенный смысл.
щущения, пережитые Иудой-предателем пред совершением своего отвратительного богомерзкого дела, были знакомы и Мазепе, всесильному гетману Украины. Ненасытный аппетит не так легко было удовлетворить. Когда окружающим казалось, что он имеет все, Иван Степанович начинал ощущать недовольство, неудовлетворенность, и в его душе шевелились две чудовищные, ненасытные змеи: зависть и жадность.
— Пока этот человек у власти, я не могу спать спокойно, — решил, наконец, гетман, и судьба казацкого «батьки», судьба героя народного, Семена Палия, была решена бесповоротно.
«Я не могу ни уснуть, ни проснуться с легким сердцем, — думал гетман, — пока у меня под боком живет этот старый коршун, причаровавший и казачество, и «быдло». Глупой темной массе давно полюбился хвастовский чудак. Он и в своем Хвастове, и в Белой Церкви, и здесь, в Бердичеве, везде одинаково люб. Голыми руками эту змею не возьмешь, я это всегда знал и не забывал ни на минуту… Но я умею расставлять капканы не только для лисиц… В мою западню и коршун залетит, и змея заползет… Самая хитрая гадюка войдет в нее, как в свою нору. Разве он откажется прибыть ко мне в царский день?.. Э, да ему лишь бы запах вина услышать… Не прибежит, а прилетит».
Мазепа предавался этим «отрадным размышлениям» сидя у открытого окна в своем временном обиталище в городе Бердичеве, куда он явился с русским полком и отрядом сердюков, будто бы для расследования запутанных дел, возникших за последнее время между казацкой старшиною и польскими магнатами. На самом же деле гетман хотел побывать в тех местах, где популярность Палия успела пустить глубокие корни, но где шляхетство было проникнуто к старому полковнику непримиримой враждой.
Солнце медленно склонялось к западу. Окна гетманской квартиры выходили на площадь, пересекаемую Белопольскою улицей, существующей и поныне. Иван Степанович сидел в расстегнутом алом халате у окна, нетерпеливо постукивая погасшей трубкой, усыпанной драгоценными камнями, о дубовый подоконник. Он бросал нетерпеливые взгляды на пыльную дорогу и так погрузился в созерцание, что даже не заметил, как от серебрянного чубука отвалился крупный дорогой жемчуг и упал в бурьян, густо разросшийся под окошком.
Жарко в комнате, жаром пышет на улице; грудь гетмана дышит порывисто, поднимая расшитую щелками сорочку. Вот густое облако пыли привлекло его внимание; и он даже наполовину высунулся из окна.
Но из розоватого облака выделилась огромная колымага, и гетман с разочарованным видом откинулся на спинку резного массивного кресла. Это были не те, кого он ждал.
Сегодня, по его соображениям, должно было прийти письмо из Москвы, в ответ на гетманский донос, решающее участь старого Палия. Вот почему гетман обнаруживал сегодня такое нетерпение, вот почему он временно утратил свой спокойный величественный вид.
Мазепа хлопнул в ладоши, и на пороге не замедлил появиться краснощекий, чернобровый парубок в зеленой черкеске с откидными рукавами.
— Что, часовые ничего не разглядели по дороге? — осведомился Иван Степанович.
— Ничего не видно, пане-гетмане, только пыль курит.
— Пыль курит, — машинально повторил Мазепа и знакомь показал подать огня для трубки, — Разве они не знают, что надо торопиться?! — ворчал старец. — Разве я не наказывал этому Орлику вихрем мчаться сюда, не жалея ни коней, ни людей, ни самого себя?.. Уж не случилось ли с ними беды?.. Времена теперь тяжелые, всякий встречный враг… Ну, да ведь он же не один!.. Мои слуги его не выдадут и самому черту.
Когда парубок поднёс на бронзовой тарелочке уголек для трубки, Иван Степанович уже погрузился в легкую дрему. Напряженные нервы не выдержали, и седая львиная голова свесилась на грудь. Парубок повернулся на одной ноге и неслышной поступью вышел за дверь.
Волшебник-сон перекрасил седины в темно-русые кудри, морщины скрыл под махровым румянцем и зажег огонь юности в угасающем взоре. Гетман увидел себя бодрым, сильным и цветущим; такими представлялись ему и его сподвижники: Палий, Ганжа, Самойлович и другие.
И в нетронутом, неозлобленном сердце гетмана нет места ни вражде, ни зависти, ни гордыне. О, как легко, как хорошо ему! Как вольно дышит его грудь!.. Звенят золотые и серебряные кубки, отнятые в бою у врага и товарищей недавней битвы обходить круговая чаша, наполненная пенистым медом; друзья обнимают друг друга и пьют здравицу за процветание и волю своей единой дорогой матери — Украины.
Но Украина ничего не страшится, так как вражда и подлое предательство незнакомы сынам её: острые казацкие сабли только ради неё покидают ножны свои, буйные казацкие головы склоняются долу в кровавом пиру только для блага многострадальной.
Дуновение нежданно налетевшего ветра захлопнуло окно. Мазепа вздрогнул, покачнулся в кресле, открыл глаза и теперь только заметил стоявшего у двери парубка, докладывающего в третий раз, что стоящее на, вышке часовые заметили отряд всадников, несущихся, во весь дух по киевскому старому шляху. Гетман бросился к окну, но улица была еще пуста; только в теневой стороне бродили еврейские козы, ощипывая молодые побеги на старых вербах. Прошла минута, другая. Время для ожидающего тянулось страшно медленно: секунды казались минутами, минуты — часами. Наконец послышался отдаленный топот, ближе, ясней и отчетливей раздается стук копыт, сливающийся с лязгом железного оружия.
Мелькнул и сейчас же скрылся в облаке пыли зеленый значок, прикрепленный к древку копья.
— Ну вот, наконец, и ты, слава Богу! — сказал с облегчением Иван Степанович встречая у самого порога.
Затем он нетерпеливо выхватил из его рук пакет с бумагами и быстро направился в свою рабочую горницу, куда имели беспрепятственный доступ весьма немногие. Разорвав дрожащими руками огромный серый пакет, гетман вынул оттуда целый ворох писем при чем многие полетели под стол не просмотренными. С таким нетерпением ожидаемый конверт оказался в другом пакете. Гетман сразу узнал большую государеву печать и, бережно сняв ее, начал торопливо, с жадностью пробегать бумагу. По мере чтения Мазепа становился неузнаваем: лицо его сразу просветлело, а под белыми усами заиграла самодовольная улыбка.
Окончив чтение, гетман отворил дверь настежь и крикнул ожидавшему дальнейших приказаний Орлику:
— Наша взяла!.
Орлик не замедлил явиться на зов.
— Наша взяла, — повторил гетман, и из груди его вырвался не смех, а какие-то всхлипывания: смеялось что-то внутри его, лицо, же было серьезно, даже сурово. — Читай! — добавил он, протягивая бумагу, — вслух читай! Только надо предварительно хорошенько запереть дверь… У старой лисицы много ушей… Его уши слышат за сотни верст, и глаза его, даром, что с виду подслеповаты, видят далеко-далеко… Затворил?.. Читай!..
Орлик внятно, вполголоса прочел предписание гетману немедленно арестовать полковника Семена Палия и доставить его под строгим караулом из московских ратных людей в «Приказ». Палий обвинялся в сношениях со шведами и в неисполнении царского указа об отдаче захваченных самовольно городов и поместий. Нечего и говорить, что значительная часть этих обвинений была выдумана и разукрашена в рабочей канцелярии вельможного гетмана.
— Не уйти ему теперь от нас! — с уверенностью произнес Мазепа. — На пир он придет, не может не приехать… Кстати, распорядись, чтобы везде были приготовлены поставы добрых коней… Пусть думают, что для меня стараются, лучше сделают. Его придется тайно везти по ночам.
— Слушаю, пане-гетман!
— А теперь ступай, отдохни… Ты заслужил себе отдых…
Оставшись один, Мазепа, весело потирая руки, стал ходить из угла в угол, предвкушая наслаждение видеть своего врага (не сделавшего ему никогда никакого зла) поруганным, низверженным и обесславленным. Он рисовал его ползающим у своих ног… В эти минуты он забывал, что хвастовский затворник не из тех людей, которые способны просить пощады и унижаться до мольбы пред своим угнетателем… Он видел его на берегах далекого, пустынного Енисея, куда ушел уже давно Самойлович, принужденный отдать гетманскую булаву Мазепе… Порой ему рисовалась плаха…
— О, он не вырвется из моих когтей! — шептал гетман, забывая, что и его ждет могила, быть может, более позорная чем плаха для безвинного страдальца.