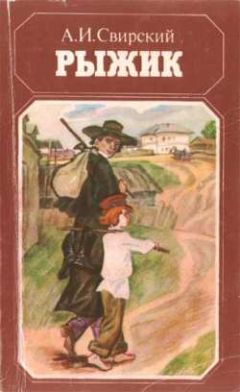Неподалеку стояла группа биндюжников[2] и добродушно посмеивалась, глядя на маленьких оборвышей.
— Гляди-ка, какие Родоканаки[3] экстренной машиной по шпалам прикатили! — проговорил один из биндюжников, указывая на Спирьку и Рыжика.
— Это не Родоканаки, а жуликанаки, — заметил другой возчик и громко засмеялся.
Приятели напились и отошли прочь от водокачки. На насмешки возчиков они не обратили никакого внимания. Долго шли они, путаясь между вагонами, рельсами и стрелками, пока наконец не выбрались из этого железнодорожного лабиринта. Вот тут только они увидали Одессу и прибавили шагу.
Было около пяти часов пополудни. Погода стояла великолепная. Солнце, уходя на запад, прощальными лучами озаряло белевший вдали обширный город. Южный теплый ветер, пробегая мимо, ласкал и манил куда-то маленьких оборванных путешественников.
— Вот она, Одесса-то, где!.. — воскликнул Рыжик, когда они вышли на ровное место.
— Да, это Одесса, а не Киев, потому Киев на горе стоит, — заметил Спирька и добавил: — Теперь, брат, не зевай, идем скорей!.. Постреляем, покуда светло, а там и жить начнем.
— Идет! — весело и добро откликнулся Рыжик, и приятели смело двинулись вперед.
Громадный город, с его шумом, давкой и оживлением, поразил и ошеломил маленьких бродяг. Широкие ровные улицы, вымощенные каменными плитками, высокие дома с балконами, длинные аллеи вдоль просторных тротуаров, зеркальные окна магазинов, нарядная, богатая толпа, стукотня, говор и грохот экипажей — все это до того заинтересовало ребят, что они совершенно забыли, где они и для чего сюда явились. Им и в голову не приходило, что они, оборванные и грязные, обращают на себя всеобщее внимание и что многие из публики поглядывают на них не то с сожалением, не то с чувством брезгливости.
В особенности брезгливо отстранялись от них дамы, боясь, чтобы ватные лохмотья оборвышей не прикоснулись к их дорогим весенним нарядам. Приятели, будучи уверены, что они имеют право ходить по улицам, смело шагали вдоль тротуаров, громко делясь своими восторгами и впечатлениями.
— Глянь-кося, — указывая пальцем на цилиндр одного молодого человека, проходившего мимо, воскликнул Спирька, — шапка-то какая: не то ведро, не то тумба!
— Гляди, фургон какой! — кричал Санька, указывая на омнибус.
— Погоди, сейчас подкую вон того барина, — сказал Спирька, и, подскочив к богато одетому мужчине, он сдернул с себя шапку, согнулся в три погибели и, протянув руку, затянул хорошо знакомую ему песню: «Благодетели милостивые! Подайте христа ради сироте круглому… Христьяне православные…»
Мужчина не дал докончить Спирьке и сунул ему в руку двугривенный. Вьюн, увидав монету, в восторге подскочил к Рыжику и воскликнул:
— Глянь-кось, сколько отвалил! Вот так почин!..
— И я стрелять буду! — решительно заявил Рыжик.
— И отлично сделаешь, — одобрил Спирька. — Идем дальше!
Они вышли на главную улицу, на Дерибасовскую, и… ахнули от изумления. Такая роскошь, такой блеск, такое богатство никогда и во сне им не снились! На время они даже и нищенствовать забыли. Они шли по тротуару, где сплошной массой двигалась нарядная, праздная публика. Рыжик в своих тяжелых сапогах, огромных и серых от засохшей на них грязи, не раз наступал на платья дам, за что его награждали злобными взглядами и нелестными словечками. Рыжику это шествие, теснота и давка надоели очень скоро.
— Пойдем на середку, — обратился он к Спирьке, — здесь господа толкаются. Ну их!..
— Идем, мне все едино, — согласился Вьюн.
Приятели вышли на середину улицы. Но не успели они сделать несколько шагов, как их увидал стоявший на посту городовой, высокий, полный, с горизонтально лежащими темными усами.
— Вы чего сюда затесались?.. Вон отсюда!.. — зарычал на них блюститель порядка, надув щеки и сверкая глазами.
Неожиданно появившийся городовой насмерть перепугал маленьких оборвышей. Охваченные паникой, они быстро повернули назад и со всех ног бросились бежать, держась середины улицы.
— Бере-гись!.. — вдруг гаркнул на них бородатый кучер, и, как вихрь, промчалась мимо ребят пара рысаков, запряженных в шикарную коляску, в которой сидела дама в огромной шляпе с дрожащим красным пером и крохотная беленькая собачка.
Крик сытого кучера, точно удар кнута, ожег приятелей, и они, как ошпаренные, отскочили в сторону. Но там на них крикнул другой кучер, мчавшийся с противоположной стороны. Мальчики окончательно растерялись и снова бросились бежать посередине улицы, пока опять не наткнулись на городового.
— А!! — разинул рот городовой.
Но оборвыши не дали ему окончить и в ужасе повернули назад.
Спирька с Рыжиком очутились в положении кур, забредших в чужой огород. Дети гонятся за ними, кричат им: «Киш, киш!..», а обезумевшие от страха куры мечутся по засеянным грядкам, не находя выхода.
Наконец один городовой сжалился над ними и указал им, куда идти. Долго шли они по улицам Одессы, тщетно отыскивая глазами такое место или такое заведение, куда они могли бы зайти поесть, попить и переночевать. Но, к великому их огорчению, по обеим сторонам улиц, по которым они проходили, гордо возвышались каменные громады, ярко сверкали окна магазинов, а на панелях разгуливали всё богачи, до того нарядные, до того важные, что оборвыши не осмеливались близко подходить даже к тротуарам. У Рыжика впервые шевельнулось неприязненное чувство к нарядной толпе. «Ишь, они какие, — думал он, поглядывая исподлобья на публику, — весь город себе забрали…»
Спирька думал только об одном: как бы найти подходящий трактир. Во рту у него за щекой лежал двугривенный, который очень бодрил мальчика. Его только смущала роскошь одесских улиц. Он уже готов был подумать, что Одесса — город богачей, как вдруг они повернули на Базарную улицу, и радостная улыбка озарила лица мальчиков. Они увидали бедняков и несказанно обрадовались. Дома и здесь были большие, каменные, но публика была совсем иная. Здесь народ не чванился, а держал себя свободно, громко разговаривал и даже песни пел.
Местная публика как нельзя лучше пришлась по душе Рыжику и Спирьке. Оба они были рады тому, что в Одессе живут не одни только богачи. В большой восторг пришли они от оборванных и грязных детей, которыми базарная площадь кишмя кишела.
— Гляди, сколько нашего брата здесь, — указывая на маленьких оборвышей, проговорил Рыжик.
— И отлично, хорошо: стало быть, и мы тут панами будем, — довольным тоном сказал Спирька.
— Пироги горячие! Пироги! — раздался вблизи приятелей звонкий бабий голос.
Спирька с Рыжиком молча перекинулись взглядом, улыбнулись и купили у бабы пару горячих пирогов с печенкой. С волчьей жадностью уничтожали приятели пироги, находя их замечательно вкусными, несмотря на то что от пирогов не совсем-то важно и приятно пахло, а от остывшего во рту сала прилипал язык к нёбу.
Базарная площадь была со всех сторон окружена трактирами, питейными домами, ресторациями и другими подобными заведениями. Когда открывалась дверь любого из этих заведений, на площадь врывался шум пьяных голосов. Иногда из открытой двери трактира, точно неодушевленный предмет, выволакивали пьяного.
Спирьку, как более опытного и знающего, потянуло к трактиру.
— Пойдем, слышь, в трактир, — сказал он Рыжику, — там чайку попьем и о ночлеге разузнаем…
Рыжик охотно согласился на предложение товарища, и оба приятеля спустя немного времени сидели в трактире «Белый орел» и пили чай. На чистую половину, где столы были покрыты белыми скатертями, их не пустили. Мальчишка-половой в белых штанах, с грязной тряпкой вместо салфетки через плечо, увидав Спирьку и Рыжика, подлетел к ним, усадил их за единственно незанятый столик подле дверей и, назвав их помещиками, спросил, что им угодно.
— Чаю! — коротко ответил Спирька и заранее отдал последние два пятака, которые остались от двугривенного после пирогов.
Половой схватил деньги и, как вихрь, умчался куда-то. Спирька успел только разглядеть его затылок, на котором лоснились густо вымазанные маслом русые волосы, подстриженные в скобку.
Грязная половина трактира, в которой сидели приятели, была битком набита оборванцами. Среди посетителей положительно не было ни одного человека, мало-мальски прилично одетого. На всех здесь висели грязные, бесформенные лохмотья. В трактире пили чай, но больше всего водку. Среди посетителей были женщины и дети. Народ держал себя здесь более чем непринужденно. Шум, крик, давка, звон посуды и площадная брань не прекращались ни на минуту. В трактире было жарко и душно. Табачный дым и пар тяжелыми тучами носился над головами посетителей. Сквозь этот туман огни висящих ламп казались кроваво-красными. Возбужденные потные лица, бороды, женские головы в платочках, кулаки, бутылки и громадная стойка с брюхатым буфетчиком вырисовывались неясно, точно в тумане.