— Ну, кто вас? Кто вас? — спрашивала Женя, оглядываясь по сторонам. — Ну, чего вы испугались? Ведь я же здесь, я здесь. Да разве я дам вас кому-нибудь в обиду?
Никого не было. Утки, столпившись вокруг Жени, все еще жаловались, поглядывая на нее черными бисеринками глаз, и наступали ей на ноги своими смешными широкими лапками. У Жени раскрылось сердце.
— Эх, вы, — сказала она, — ко мне спасаться бежите?
И такой нежностью к этим робким существам наполнилась ее душа, что захотелось их всех захватить в руки, погладить атласные белоснежные перья, поцеловать маленькие белые головки, погреть в ладонях оранжевые босые лапки…
— Эх вы, — еще раз усмехнулась она, — а никого и нет, ничего и не случилось.
В это время из-за старой колоды выбежала собака. Она остановилась, подняла острые ушки и нерешительно завиляла хвостом. Это был рыженький Руфин Орлик.
— Ах, вот в чем дело, — сказала Женя, — значит, все-таки у нас гости! Ты что, Орлик, думал, что Руфа здесь? А Руфы нет, Руфа дома. Неужели у тебя никакого чутья — бежишь себе, да и ладно. Смотри, как ты моих уток взбаламутил, а? Ступай-ка домой, отчаливай.
Проводив Орлика за калитку, Женя вернулась к озеру. Тут она увидела, что пропустила какие-то очень важные минуты и не заметила, как звезды погасли в воде, а у противоположного берега, среди камышей, возникла светлая полоска зари.
— Светает! — радостно удивилась Женя.
И счастливая тем, что сумела продежурить всю ночь и ни разу не уснула и что ночь прошла так благополучно, обернувшись к уткам, деловито сказала:
— Сейчас кормить вас буду.
И утки поняли.
«Да, да, — закричали они, начиная ковылять вокруг кормушек, — корми скорее, мы уже проголодались, часа три совсем не ели ничего!»
Женя разнесла корм. Сон развеялся, работалось весело, легко. Она чувствовала, что в сердце родилась какая-то новая радость, которая заслонила тяжелые раздумья последних дней и согрела ее. Что произошло в ее жизни?
И вдруг поняла — сегодня, в своем ночном дежурстве, у нее раскрылась душа для той работы, которую она делает, она поняла, что, как это ни странно, начинает любить своих уток. Как они бросились сегодня к ней, ища защиты?
«Они — живые, к ним нельзя без любви…» — сказала однажды Руфа. Только сегодня ночью Женя поняла глубокую, сердечную правду этих слов.
Погожее утро бодрило, хотелось петь, отбросив все, что омрачает душу. Женя сбежала к берегу, сбросила туфли, вошла в розовую, еще холодную воду.
— Хорошо!
Приглядевшись к своему отражению, разбила его ногой. Она не нравилась себе: и глаза какие-то раскосые, и шея тонкая, и нос не поймешь какой — не то гриб, не то картошка…
— Ну и ладно! А не все равно? — проворчала Женя и принялась умываться.
Она плескала себе в лицо полными пригоршнями студеной воды, огнистые брызги далеко разлетались кругом, и сквозь эти брызги Женя видела: утки осторожно спускаются с берега и плывут, чуть шевеля лапками, сами розовые, по розовой заревой воде.
Женя выпрямилась, откинула со лба мокрые темные волосы и, чувствуя, как все тело ее, словно током, пронизано безотчетной радостью, раскинула руки и закричала:
— Я хочу его видеть, должна его видеть, я обязательно должна его видеть!
Негромкий, полный сдержанной нежности голос прозвучал в тишине:
— Здравствуйте, Женя…
Она мгновенно обернулась. У изгороди, словно вызванный заклинанием, стоял Арсеньев и смотрел на нее.
Он все знал и все понимал. Потому что, когда тебя любят и когда ты сам любишь, не видеть и не понимать невозможно. И только очень юные люди, такие, как Женя, полюбив, считают, что любовь их, как жемчужина на дне моря, скрыта от всего мира, не догадываясь, что эта сердечная тайна лучится в их глазах, вспыхивает в их румянце, выдает себя в их смущении, в их беспричинной веселости и такой же беспричинной печали.
Савелий Петрович дал волю своему негодованию:
— Да где же вы были, Никанор Васильич? Как вы-то прошляпили? Вы же весь мой совхоз под удар поставили! На всю область позор. Целое стадо погибло!
Никанор Васильич, завесив глаза густыми бровями, сидел и ждал, когда директор устанет кричать.
— Двести с лишним голов! И это когда мы во все трубы протрубили: Вера Грамова — звезда совхоза! Позор! Докладывайте: как это случилось?
Никанор Васильевич не поднял бровей:
— Подожду.
Савелий Петрович яростно уставился на него:
— То есть как — подождете? Чего подождете?
— Подожду, когда вы обретете способность слушать.
Савелий Петрович налил из графина стакан воды и залпом выпил. Вода была теплая и противная, но все-таки помогла ему овладеть собой.
— Слушаю! — рявкнул он, с досадой оттолкнув попавшее под руку тяжелое пресс-папье.
— С тех пор как у нас в совхозе, кроме птичника Веры Грамовой, появились новые бригады, — обстоятельно начал Никанор Васильевич, — бригада Пелагеи Нечаевой, молодежная бригада Руфы Колокольцевой…
— Вы что, может, мне всю историю совхоза изложите? — прервал его Савелий Петрович. — Я спрашиваю: по-че-му по-гиб-ли ут-ки?
Никанор Васильевич опять завесился бровями и замолчал.
Директор налил себе второй стакан противной воды:
— Я слушаю, черт бы вас побрал! Слушаю!
— Так вот, с тех пор как у нас появились новые бригады, естественно, что они тоже потребовали и заботы, и внимания, и, конечно, кормов. До сих пор — как было? Все лучшие корма — Грамовой. Комбикорма — завались. Она к этому привыкла — обо всем за нее подумают, обо всем позаботятся, а нынче надо уже самой думать.
— Ну, уж о ней-то вы могли бы, Никанор Васильич, позаботиться. Вы же знаете, она на виду, всей области видна. Что теперь скажут о нас? Не помогли, не обеспечили.
— Сказать-то, конечно, скажут. Но это неверно. Помогать — это не значит все делать за нее: и корм распределять, и даже подстилку менять. Грамова видела, что у нее комбикорм кончается, — почему не потребовала вовремя?
— Ну, Никанор Васильич, если утки погибли, — директор грозно повысил голос, — из-за того, что кормов не хватило, — это вам позор. Вам! Вы должны были обеспечить кормами.
— И вам, Савелий Петрович, — спокойно возразил зоотехник. — Я не раз говорил, что в хозяйстве всегда должен быть хороший запас кормов, чтобы не зависеть от случайностей. А что вы на это? «Мышей разводить»! А теперь вот — ни корма, ни мышей… и ни уток!
Директор встал и нервно прошелся по кабинету. Потом открыл дверь к секретарше:
— Вызовите машину.
— А если по существу, — Никанор Васильевич увидел, как побледнело у директора лицо, сжалился над ним, — не из-за кормов это несчастье. Запас у Веры был, только расходовала она его как попало, без расчета. Пелагея, так та рассчитывает. И молодые тоже. А эта — и в кормушки и мимо, она — Вера Грамова, ей достанут!
— Но если не из-за кормов, то из-за чего же?
— Аспергилёз у них. От сырости. Оттого, что подстилки у них чистой не было. На сырой соломе утки спали — вот отчего. Солома заплесневела, а Грамова не видела, а может, и не управилась.
— Двести с лишним — за одну ночь!
— И пятьсот могут погибнуть. И тысяча. И все за одну ночь. А я не уследил — судите меня. Вы сочли необходимым послать меня в это время на курсы повышения квалификации. Это правильно, повышать квалификацию необходимо. А когда я вернулся, тоже не сразу к ней бросился. Считал более важным понаблюдать за молодыми бригадами, которые еще неопытны. А здесь что? Неопытность? Неумение? Незнание?
— А черт ее знает, эту бабу!
— Зато — звезда! — Никанор Васильевич пожал плечами. — Ведь вам звезды необходимы.
Подошла машина. Директор пригласил с собой Никанора Васильевича и вышел из кабинета.
Приехав к Вере на птичник, Савелий Петрович увидел, что утиное стадо в еще более плачевном состоянии, чем он думал. Многие утки ходили окровавленные.
— Это что такое, — упавшим от гнева голосом спросил он у Веры, — ты что же — не видишь?
— Почему не вижу? Вижу, — хмуро ответила она.
— Да как же ты допустила?
Вера холодно взглянула на него.
— А чего ж вовремя комбикорма с завода не привезли? Одной мукой кормлю — вот и жрут друг друга.
Савелий Петрович готов был испепелить ее своими яростными желтыми глазами.
— А чего ж ты молчала, что у тебя комбикорма нет? Я, что ли, должен обо всем знать и помнить?
— Да уж о моих-то делах могли бы и знать и помнить. Под вашу диктовку обязательства-то брала.
— Под мою?! А ты, значит, в стороне стояла!
Директор, задыхаясь, прошелся по берегу. Вон как щиплют друг друга — до крови.
Он снял свою белую полотняную кепку, провел рукой по густым влажным волосам, стараясь успокоиться.
— Эх, Вера! А я-то на тебя — как на каменную стену… Смотри-ка, стадо-то какое — ай-яй-яй! Эти в крови, те как пеплом посыпаны. Да что с тобой: видишь, что у тебя творится, или нет?
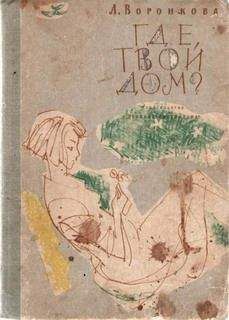



![Мила Бонди - Броситься в объятия мужчины [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/15071/15071.jpg)
