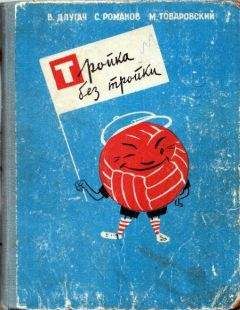После всенощной «монастырки», несмотря на утомление, шли по городским улицам бодрые, веселые. В пансионе их встретила с подогнутым подолом Секлетея, мывшая полы в отсутствие девочек. Сторож Нахимов, ветхий белобородый старик, накрыл стол, поставил кутью, рис с медом, пироги с вязигой и заливное. Вифлеемская звезда глядела в окно. Пост разрешался.
Поужинав и получив напутствие от уезжавшей матушки, девочки пришли в спальню.
Одну Ливанскую матушка задержала у себя.
Охотно и быстро раздевались «монастырки» в этот вечер. Они знали, что лишь потушит лампу Уленька и уйдет в свою комнату, отстоящую далеко от их спальни, как все встанут со своих жестких постелей. И начнется тогда пир горой, начнется полная детская радость. Будут лакомиться домашними яствами, будут гадать и рассказывать страхи в эту таинственную святочную ночь… Хорошо будет!.. Ах, хорошо!..
Уже одиннадцать девочек покорно, по первому сигналу Уленьки, улеглись в постели, скрестив на груди руки, как это требовалось пансионским уставом. Уже уходя, костлявая рука Уленьки протянулась к лампе, чтобы завернуть в ней свет, как неожиданно хлопнула дверь спальни и, рыдая навзрыд, Лариса ворвалась в комнату.
— Что? Что ты? Что с тобой? Ливанская! Королева! Ларенька! Что случилось?
Девочки, не помня себя, не слушая Уленьки, повскакали со своих постелей и окружили рыдающую красавицу.
Лариса даже не могла совладать с собою. С распустившимися вдоль спины косами, вся бледная, с трясущеюся челюстью, она бросилась, распростершись, на постель и рыдала, рыдала, рыдала.
Растерянные, взволнованные, босые, в одних длинных ночных сорочках, девочки стояли вокруг любимой подруги.
— Ларенька, милая, да скажи ты, что с тобой, Ларенька!..
Она все рыдала, не будучи в силах произнести ни слова.
Но вот, протиснувшись с трудом через толпу девочек, к ней пробралась Уленька.
Положив свою желтую, крючковатую руку на плечо королевы, послушница затянула своим приторно-слащавым голоском:
— Полно убиваться… Грешно плакать так-то, девонька… Матушка отличает… Матушка, можно сказать, из целого сонма выбрала… а вы так неистовствуете, красавица вы моя! О Господи!.. слез откеда берете-то! Словно не на безгрешное, ангельское празднество, не на радость духовную, а на смертное дело вас ведут… Опомнитесь, Ларенька, опомнитесь, краля моя писаная… Христовой невестой будете… Госпо…
— Не хочу в обитель! Не хочу быть монахиней! Не хочу! Слышишь? Не хочу! Не пойду в обитель. Умру лучше, а не пойду! Так пусть и знают! Умру! Да! Да! Да!
Теперь уже Лариса не лежала, захлебываясь в слезах. Высокая, стройная, она выросла перед послушницей. Красивые глаза ее горели злым, неприязненным огнем. Обычно рассудительная и спокойная девушка, она вся теперь кипела возбуждением.
— Что вы, Ларенька, что вы, царевна моя распрекрасная, что вы раскричались так? — затянула было снова Уленька и вдруг осеклась.
Прямо ей в лицо уставились два с лишним десятка таких жгучей ненавистью горящих глаз, что она запуталась, смолкла и, подхватив для чего-то свою черную ряску рукою, поспешно пробормотала что-то и юркнула за дверь.
— Ушла! — вздохом облегчения вырвалось из груди девочек. — Теперь, Лариса, говори.
Королева села. Вокруг нее сели остальные. Маркиза Соболева пробралась к «королеве» ближе других и, положив на колени королевы свою белую головенку, смотрела ей в лицо полными скорби и участия глазами.
Верный рыцарь — Игранова — поместилась у ног Ларисы и, судорожно подергивая ртом, кусала губы, чтобы не дать воли охватившему ее волнению. Остальные девочки плотнее окружили их.
— Говори, Ларя, говори.
— Да что говорить, девочки, что говорить-то! — с тоскою и озлоблением вырвалось из груди Ларисы. — Позвала «она» меня сейчас и говорит: «Знаешь, зачем я в обитель еду?» — Не знаю, говорю, а у самой сердце екнуло, недоброе словно что-то чуяла душа. Не знаю, говорю, матушка. А она ухмыльнулась да и говорит: «Готовься предстать перед праведные очи матушки игуменьи… После праздников и елки у княгини отвезу тебя я туда»… Как услыхала я это, так и бухнула ей в ноги… — Матушка, не губи! Матушка, оставь у себя, не неволь! Не гожусь я в монахини. Грешница я. Мирская душа во мне… А она мне на это: — «Душа что воск. Разогреешь ее молитвами, и станет она топиться и таять от жизни иноческой. Так мы решили с матушкой игуменьей, — так тому и быть. Готовься стать инокиней!»
— Все кончено теперь! — заключила, зарыдав вновь и заламывая руки, Лариса.
Примолкли, притихли девочки. Горе было велико.
Трудно было помочь такому горю. Мраком и безнадежным отчаянием наполнились детские души. Помочь нельзя.
— Ларенька, милая! Отнимут от нас тебя, Ларенька! — прокричала маленькая Соболева.
— Маркиза, молчи! Не рви душу… И без того тошно… О, если бы только силу мне!
И «мальчишка» довольно недвусмысленно погрозила кому-то кулаком в пространство.
— Бодливой коровке Бог рог не дает, — съехидничала Юлия Мирская, выставляя из-за чьей-то спины свою черную голову.
— Юлька, молчи, девушка-чернявка… А то, ей-Богу, кусаться буду… Убирайся к своей Уленьке… Вы с ней пара! — бешено крикнула Игранова и топнула ногой.
— Сама убирайся к уличным мальчишкам, там твоя компания! — огрызнулась Юлия.
— Девицы, не ссорьтесь!.. Тут надо думать, как Лареньке помочь, а они грызутся! — вмешалась Паня Старина.
— Да как помочь? Как помочь-то! Если написать Ларисиной бабушке письмо, мать Манефа перехватит… а самим в кружку опустить нет возможности. О, Господи! Затворницы мы тюремные! Заживо погребены от людей!
И «правда в ряске» злобно ударила кулаком по ночному столику.
— Ничего не поделаешь! Смириться надо, Ларенька!
И серебряная голова маркизы прилегла на плечо Ливанской.
— Бедная! Бедная Ларенька! — присовокупила она нежным печальным голоском. И вдруг заплакала. Заплакали и остальные.
В болезненно настроенном воображении вырисовывались перед каждой из них суровые стены обители, молчаливо-угрюмый сонм монахинь, карающая за малейший недочет неумолимая игуменья и весь ужас монастырского заточения, который, как им казалось, неизбежно ждал их общую любимицу Ларису.
Слезы усилились и перешли в рыдание. Стонами горя, первого молодого горя, наполнился мрачный пансионский дортуар.
И вдруг свежей струею влилось нечто в это общее беспросветное отчаяние юных подруг.
— Тише! Не плачьте! Горю можно помочь! — раздался сильный, молодой голос за их плечами.
В один миг поднялись опущенные головки, и залитые слезами лица обратились в ту сторону, откуда послышалась твердая и смелая речь.
— Ксаня! Лесовичка! Что придумала ты?
Ксаня молча выдвинулась вперед. Ее черные глаза горели мыслью.
Ей дали дорогу, расступившись, пропустили к Ларисе, усадили рядом на постель.
— Ну… ну… говори, что придумала, Ксаня!
Она обвела толпившихся вокруг нее девочек своим сверкающим взором и произнесла твердо и резко, с налета:
— Ей бежать надо, Ларисе… К бабушке… в Петербург… просто бежать, — сказала Ксаня.
— Да как бежать-то?.. Как бежать, скажи! — волнуясь и трепеща от неожиданно задуманного плана, зашептали девочки. — Ведь мы на замке день и ночь… За нами следят: Назимов в передней, внизу дворник у ворот, в черных сенях мальчишки на побегушках… Как бежать-то?
— Через сад надо… Мимо белой руины, через забор, а там ей помогут и к бабушке добраться… — глухо и трепетно срывалось с губ Ксани.
— Помогут? Кто поможет?
— Помогут… Я знаю, что помогут… У меня есть знакомый гимназист… Он к тому времени вернется в город и поможет… Только письмо надо, письмо… В руину… Да… Да… А письмо я напишу сейчас.
Сказав это, Ксаня вдруг обернулась, неожиданно схватила за руку Мирскую и сказала твердым голосом:
— Если ты выдашь, если проболтаешься своей Уленьке, берегись тогда!
Что-то страшное загорелось в глубине ее черных глаз. Страшное, неумолимое, злое.
Юлия вздрогнула, побледнела и забожилась на образ с теплющейся перед ним лампадой именем угодников святых, что будет молчать.
— Хорошо! — угрюмо бросила Ксаня, — а ты, Ларенька, не горюй. Переправят тебя к бабушке и к жениху, — добавила она на ухо Ларисе.
Та молча благодарно вскинула на нее глазами.
— А теперь, девоньки, пировать давайте! — прервала тяжелую сцену Машенька Косолапова, — смерть есть хочется, животики подвело.
— Ну, ладно… Давайте… Спасется Ларенька от иночества, славно будет; не спасется — нагорюемся, наплачемся после… А пока не будем портить праздника, — произнесла умышленно весело, наскоро вытирая слезы, еще блестевшие на глазах, Линсарова.
— Глядите, девочки, Змейка кружится!.. — послышался чей-то возглас.