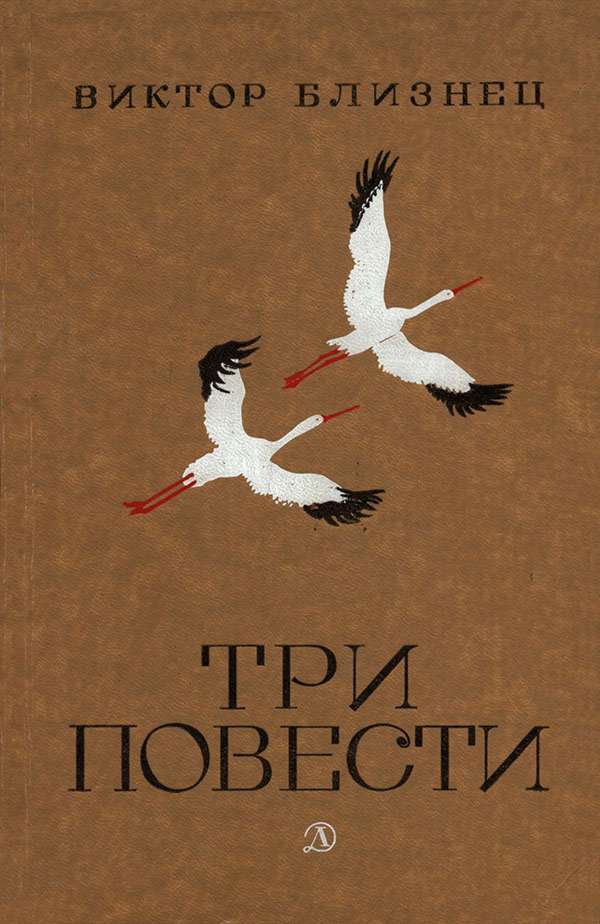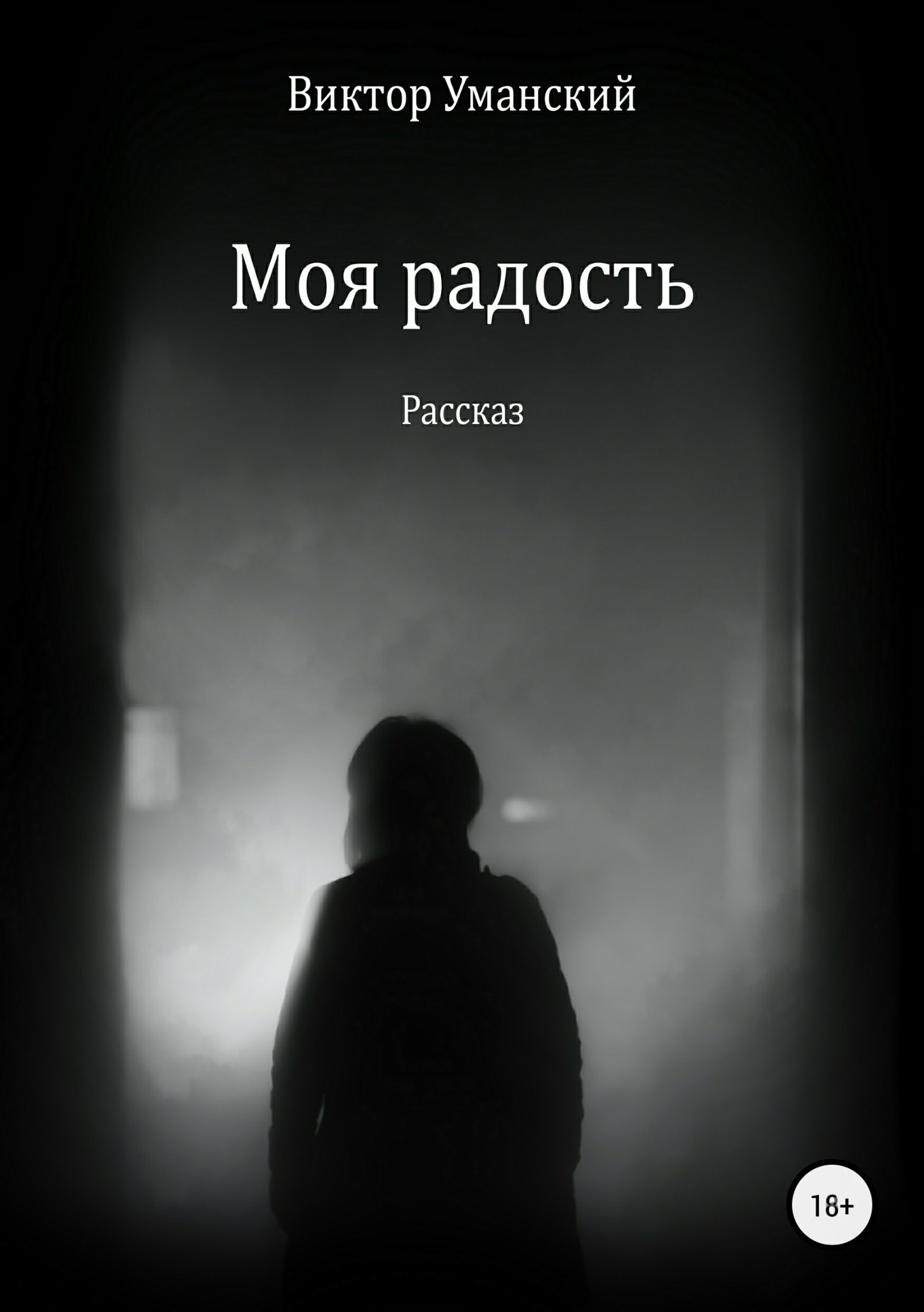class="p1">— За полицая.
Шел мелкий осенний дождь. Сердито журчала вода в канаве. Вздыхая и охая, Федька встал и отряхнул шинель. «Вот и отведал пирога!» — сплюнул он с досады.
— Эх, Антон, Антон! Можно сказать, из-за тебя страдаю. Чертом смотрят на меня и вот паек срезали. А все из-за тебя, Антон. Говорят, на красных работал — пыль столбом шла, а сейчас, мол, сто болячек у него. Симулянт! — Федька подался немного вперед, как бы желая на ухо что-то сказать. — Не думай, что я дурачок. Знаю, кто ты и с кем ты… Но помалкиваю… Как-никак брат родной. А потом и мне достанется.
Федька помолчал, как будто прислушался к шуму дождя, и вдруг стал упрашивать брата:
— Исчез бы ты, Антон, с глаз… Чтоб не было никаких хлопот.
— Э, нет, братец! Это тебе надо смываться. Влип ты, как кур во щи…
— Чего долго говорить… В хату бы пригласил. Как там твоя Одарка?
— Иди, иди, пан полицай. У тебя своя служба.
— Смотри, Антон, как бы не пожалел.
— Смотри, чтоб ты, Федор, не пожалел, когда придется сразу за все отвечать.
— Не стращай. Я сам кое-кого могу испугать, да так, что и в земле будут икать. Будь здоров! — И тяжелая тень поплыла вдоль стены.
Вот мерзавец! — плюнул вслед брату Антон. — В хату его пусти… Ишь чего захотел! Наверное, вздумал проверить, нет ли здесь кого…
— Наш разговор он, случайно, не подслушал? — спросил Максим, выходя из укрытия.
— Кто его знает. Двери вроде бы плотно закрываются.
— Добрый ты все-таки, Антон. Был бы Федька моим братом, давно бы лягушки по нему поминки справляли…
— Нет, что ты! Я не могу! Я же его, подлеца, еще с пеленок нянчил… Не поднимется на него рука.
— Боюсь, что у него не дрогнет… если шкуру свою будет спасать.
…После тревог, суеты, после тяжелых раздумий уснуло село, придавленное осенними свинцовыми тучами, низко нависшими над степью. Онемела и притихла раскисшая от непогоды земля. Словно вымерло все живое. Только на мосту и на правом берегу Ингула, где стояли зенитные батареи, изредка сверкали красные цигарки часовых.
И вдруг за Мартыном, над широким плесом, ярко вспыхнула ракета. Она выхватила из темноты маленький плот, бесшумно плывший по течению реки. На плоту в сине-белом мерцании волн вырисовывались две неподвижные фигуры. Одновременно ударили с обрыва автоматы и винтовки — на противоположном берегу зашуршали камыши, срезанные острым лезвием огня. Посреди Ингула в ярко-светлых кругах кипела и бурлила вода. Покачнулся утлый плотик, и людей как волной смыло.
Плеск, плеск! — заискрились брызги, и быстрое течение понесло два тела к густым камышам.
— Стой! Хальт! — кричали с обрыва.
Полицаи, немцы с овчарками камнем падали с горы в лодки, заскрипели весла, загрохотали выстрелы. Кто-то уже вскочил на плот, кто-то, добравшись до берега, озверело строчил из автоматов по зарослям, словно стена камышей могла отодвинуться и отдать во вражеские руки двух беглецов.
Только на рассвете, мокрые, забрызганные илом, злые, возвращались фашисты и полицаи в село. Они рыскали по хатам. За ноги стаскивали с постели еще спящих женщин и детей, хватали стариков за горло, спрашивая: «Где партизаны?» — потом перевертывали кадки, вспарывали пуховики, ощупывали каждый угол.
Среди полицаев был и Федька Кудым. Он был такой испуганный, услужливый, совсем как собака, нагадившая в хате хозяина. Больше всего рыскали каратели у Деркачей и у старого Яценко. Ни Максима, ни Антона, ни его жены почему-то не было в селе. Будто договорившись, исчезли неизвестно куда.
— Так-с! — щелкнул золотыми зубами белобрысый немец, вытирая платочком руки после обыска. — Пана Кудыма сюда!
Полицаи, только что спустившиеся с чердака, откашливались да вытаскивали перья из мокрых волос.
— Федьку, Федьку сюда! — передавали друг другу по цепочке.
Федька бочком придвинулся к немцу, виновато вобрав голову в воротник шинели. Вытянув руки по швам, он испуганно заморгал.
— За важное донесение, — четко выговаривая каждое слово, сказал золотозубый герр штурман, — объявляю вам благодарность. Теперь уже вполне ясно, что диверсанты имели намерение взорвать мост. На плоту нашли взрывчатку и бикфордов шнур…
— Да, да, герр штурман, — оторопело повторил Федька, — хотели взорвать…
— Итак, пан Кудым, — продолжал немец, — за то, что предупредили нас, большое спасибо вам. А за то, что прозевали диверсантов, приказываю: от-сте-гать! Слышите?! — крикнул герр штурман на полицаев. — Тридцать пять шомполов этому холопу! И сейчас же! Я сам упеку десяток, чтобы согреться…
Прошел день, второй, как уехал Кудым в село Гуйцы, и ни слуху ни духу о нем. Что это за село, где оно, куда занесла беда старого человека — никто толком не знал. Трояниха уже стала беспокоиться. Думала-гадала, не послать ли кого в Бобринец. И только на третий день под вечер, когда женщины возвращались с поля, в село въехала подвода. Впереди нее шел Кудым, по-стариковски сгорблена спина, кожух обвис, почернел от пыли. Едва переставляя ноги, Кудым тянул за повод совсем отощавшую кобылу. На подводе лежал гроб.
— Федьку везет, Федьку… — сжимая губы, шептали женщины.
Со всех сторон обложенная сеном, длинная-предлинная, из грубых свежеобтесанных досок, проплыла как печаль страшная обитель покойника.
Кудым не поднял головы, не позвал женщин на похороны. Так и прошел мимо всех, сгорбленный, немой; сам-один нес на своих плечах горе в хату.
А вскоре оттуда, где жил Кудым, донеслись такие надрывные, такие нечеловеческие рыдания, что казалось, даже вечерняя тишина застыла над селом. Это оплакивала мужа овдовевшая Василина.
На кладбище, за могилами Антона и Максима, вырос еще один холмик. Еще один крест вогнала война в холодное тело земли.
Идя в поле или с поля, женщины не один раз видели — сидит над свежим бугорком осиротевший Кудым, гладит рукой землю, словно спрашивает: «За что, за какие грехи отобрала ты, матушка, у меня всех моих сынов?..»
12
— А я уже проснулась! — сказала Ольга и поднялась с постели.
В землянке тихо. Наверное, было поздно, потому что стекло, возле которого стояла герань, рдело на солнце, залитое розовым светом; казалось, спокойное пламя охватило зеленый куст и сейчас высвечивает его до мельчайших жилок на каждом листике. Ярко пламенели мохнатые пучки соцветий. «Смотри, как герань распустилась!» — улыбнулась Ольга.
Сейчас она чувствовала себя так, словно после изнуряющей жары искупалась в прохладном Ингуле. Приятно кружилась голова, дрожали ноги, хотелось есть. И вдруг возле кушетки на перевернутом ящике, служившем стулом, она увидела небольшой букетик мяты, белую головку лука и ломоть ржаного хлеба, подаренного танкистом. «Ох, Вовчик! — погрозила пальцем в темный угол. — Сам, видно, голодным ушел». Ольга не прикоснулась к