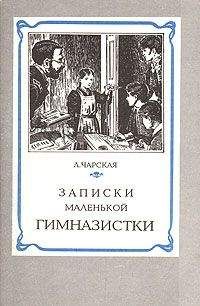Лишь только, поздоровавшись с моим отцом, он усаживался с ногами, по восточному обычаю, на пестрой тахте, я вскакивала к нему на колени и, смеясь, рылась в карманах его бешмета[6], где всегда находились для меня разные вкусные лакомства, привезенные из аула. Чего тут только не было: и засахаренный миндаль, и кишмиш, и несколько приторные медовые лепешки, мастерски приготовленные хорошенькой Бэллой – младшей сестренкой моей матери.
– Кушай, джаным, кушай, моя горная ласточка, – говорил он, приглаживая жесткой и худой рукой мои черные кудри.
И я не заставляла себя долго просить и наедалась до отвала этих легких и вкусных, словно таявших во рту лакомств. Потом, покончив с ними и все еще не сходя с колен деда, я прислушивалась внимательным и жадным ухом к тому, что он говорил с моим отцом. А говорил он много и долго… Говорил все об одном и том же: о том, как упрекает и стыдит его при каждой встрече старик мулла за то, что он отдал свою дочь урусу[7], что допустил ее отречься от веры Аллаха и спокойно пережил ее поступок. Отец, слушая деда, крутил только свой длинный черный ус да хмурил тонкие брови.
– Слушай, кунак[8] Магомет, – вырвалось у него в одну из таких бесед, – тебе нечего беспокоиться за твою дочь: она счастлива, ей хорошо здесь, наша вера стала ей родной и близкой. Да и поправить сделанного нельзя… Не беспокой же ты даром мою княгиню. Видит Бог, она не переставала быть тебе покорной дочерью. Передай это своему мулле, и пусть он поменьше заботится о нас да поусерднее молится Аллаху.
Боже мой, как вспыхнуло от этих слов лицо деда!.. Он вскочил с тахты… Глаза его метали молнии… Он поднял загоревшийся взор на отца – взор, в котором сказалась вся полудикая натура кавказского горца, и заговорил быстро и грозно, мешая русские, татарские и грузинские слова:
– Кунак Георгий… ты урус, ты христианин и не поймешь ни нашей веры, ни нашего Аллаха и его Пророка… Ты взял жену из нашего аула, не спросясь желания ее отца… Аллах наказывает детей за непокорность родителям… Марием знала это и все же пренебрегла верою отцов и стала твоею женою… Мулла прав, не давая ей своего благословения… Аллах вещает его устами, и люди должны внимать воле Аллаха…
Он говорил еще долго-долго, не подозревая, что каждое его слово прочно западает в юную головку прижавшейся в уголок тахты маленькой девочки.
А моя бедная деда слушала сурового старика, дрожа всем телом и бросая на моего отца умоляющие взоры. Он не вынес этого немого укора, крепко обнял ее и, передернув плечами, вышел из дому… Через несколько минут я видела, как он скакал по тропинке в горы. Я смотрела на удаляющуюся фигуру отца, на стройный силуэт коня и всадника, и вдруг точно что-то толкнуло меня к Хаджи-Магомету.
– Деда! – неожиданно прозвучал среди наступившей тишины мой детский звонкий голос. – Ты злой, деда, я не буду любить тебя, если ты не простишь маму и будешь обижать папу. Возьми назад твой кишмиш и твои лепешки; я не хочу их брать от тебя, если ты не будешь таким же добрым, как папа!
И, не долго думая, я быстро вывернула карманы, куда набрала привезенные дедом лакомства, и выбросила все их содержимое на колени изумленного старика. Моя мать, прижавшись в угол комнаты, делала мне отчаянные знаки, но я не обращала на них внимания.
– На, на! И свой кишмиш бери, и лепешки бери, и армянские пряники… ничего, ничего не хочу от тебя, злой, недобрый.
– Деда! – твердила я, вся дрожа как в лихорадке, продолжая выкидывать из карманов привезенные им лакомства.
– Кто учит ребенка непочтению к старости? – загремел на весь дом голос Хаджи-Магомета.
– Никто не учит меня, деда! – смело крикнула я. – Моя мама, хоть не молится на восток, как ты и Бэлла, но она любит вас, и аул твой она любит, и горы, и скучает без тебя, и молится Богу, когда ты долго не едешь, и ждет тебя на кровле… Ах, деда, деда, ты и не знаешь, как она тебя любит!
Что-то необъяснимое при этих словах промелькнуло в лице старика. Орлиный взор его упал на маму. Вероятно, много муки и любви прочел он в глубине ее черных кротких глаз, – только его собственные глаза заблестели ярко-ярко и словно задернулись набежавшей в них влагой.
– Правда ли, джаным? – скорее прошептал, нежели спросил, Хаджи-Магомет.
– О батоно[9]! – стоном вырвалось из груди моей матери, и, подавшись вперед всем своим гибким и стройным станом, она упала к ногам деда, тихо всхлипывая и лепеча одно только слово, в котором выражалась вся ее беспредельная любовь к нему: – О батоно, батоно!
Он схватил ее, поднял и прижал к своей груди.
Я не помню, что было дальше… Я понеслась, как бешеная горная лошадка, по тенистым аллеям нашего сада, будучи не в силах удержать порыв восторженного счастья, захватившего могучей волной мое детское сердечко…
Я носилась, задыхаясь, плача и смеясь в одно и то же время… Я была счастлива, как никогда, острым, захватывающим, почти невыносимым порывом счастья…
Когда, несколько успокоенная, я вернулась в комнату, то увидела мою мать, сидящую у ног деда… Его рука лежала на ее чернокудрой голове, и в глазах обоих сияла радость.
Отец, вернувшийся во время моей бешеной скачки по саду, подхватил меня на руки и покрыл мое лицо десятком самых горячих и нежных поцелуев… Он был так счастлив за маму, мой гордый и чудный отец!
Это был лучший день в моей жизни. Это было первое настоящее, сознательное счастье, и я наслаждалась им всем моим юным сердечком…
Вечером у моей постельки они собрались все трое – отец, мать, дед, и я, смеясь сквозь дымку дремоты, соединяла их большие руки в моих крошечных кулаках и заснула под тихий шепот их ласкового говора…
Новая, чудесная, мирная жизнь воцарилась под нашей кровлей. Дед Магомет чаще приезжал из аула, один или с Бэллой, моей молоденькой теткой, участницей моих детских игр и проказ.
Но наше счастье длилось недолго. Прошло всего несколько месяцев после того блаженного дня, как вдруг моя бедная дорогая мама тяжко заболела и скончалась. Говорят, она зачахла от тоски по родному аулу, который не могла навещать, боясь оскорблений со стороны фанатиков татар и непримиримого врага ее, старого муллы.
Весь Гори оплакивал маму… Полк отца, знавший ее и горячо любивший, рыдал, как один человек, провожая ее худенькое тельце, засыпанное дождем роз и магнолий, на грузинское кладбище, разбитое поблизости Гори.
Мне не верилось до последней минуты, что она умирала.
Перед смертью она не сходила с кровли дома, откуда любовалась синеющими вдали горами и серебристо-зеленой лентой Куры.
– Там Дагестан… там аул… там мои горы… Там отец и Бэлла… – шептала она между приступами кашля и указывала вдаль, по направлению северо-востока, крошечной, почти детской, вследствие поразительной худобы, рукой.
И вся она, укутанная белой буркой[10], казалась нежным, прозрачным ангелом восточного неба.
Я помню с мучительной ясностью вечер, когда она умирала.
Тахту, на которой она лежала, подняли на кровлю, чтобы она могла полюбоваться горами и небом…
Гори засыпал, обвеянный крылом благоуханной восточной ночи… Спали розы на садовых кустах, спали соловьи в чинаровых рощах, спали руины таинственной крепости, спала Кура в своих изумрудных берегах, и только несчастье одно не спало, одна смерть бодрствовала, поджидая жертву.
Мама лежала с открытыми глазами, странно блестевшими среди наступающей темноты… Точно какой-то свет исходил из этих глаз и освещал все ее лицо, обращенное к небу. Лучи месяца золотыми иглами скользили по густым волнам ее черных кос и венчали блестящей короной ее матово-белый лоб.
Отец и я притихли у ее ног, боясь нарушить покой умирающей, но она сама поманила нас трепещущей рукой и, когда мы склонились к ее лицу, заговорила быстро, но тихо-тихо, чуть внятно:
– Я умираю… да, это так… я умираю… но мне не горько, не страшно… Я счастлива… я счастлива тем, что умираю христианкой… О, как хороша она – твоя вера, Георгий, – прибавила она, повернувшись в сторону моего отца, припавшего к ее изголовью, – и я удостоилась ее… Я христианка… я иду к моему Богу… Единственному и великому… Не плачь, Георгий, береги Нину… Я буду смотреть на вас… буду любоваться вами… а потом… не скоро, да, но все же мы соединимся… Не плачьте… прощайте… до свиданья… Как жаль, что нет отца… Бэллы… Передайте им, что я их люблю… и прощаюсь с ними… Прощай и ты, Георгий, моя радость, спасибо тебе за счастье, которым ты подарил меня… Прощай, свет очей моих… Прощай, моя джаным… моя Нина… моя малюточка… Прощайте оба…
Начинался бред… Потом она уснула… чтобы никогда больше не просыпаться. Она умерла тихо, так тихо, что никто не заметил ее кончины…
Я задремала, прикорнув щекою к ее худенькой руке, и проснулась под утро от ощущения холода на моем лице. Рука мамы сделалась синей и холодной, как мрамор… А у ног ее бился, рыдая, мой бедный осиротевший отец.