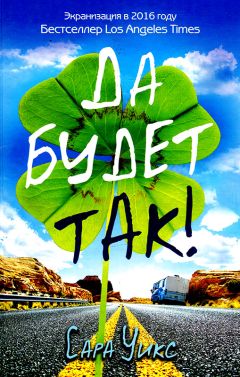Мама вручила меня Берни вместе с пустой детской бутылочкой и банкой с молочной смесью, а затем села на большой синий стул у окна и замерла в ожидании. Ее правая рука была слегка согнута в локте, а левая покоилась на коленях, словно она держала невидимого младенца.
Я оказалась не самым благоухающим ребенком на свете, так что Бернадетт наполнила кухонную раковину теплой водой и выкупала меня. Конечно же у нее не было подгузников, так что она соорудила один из кухонного полотенца и пары кусочков скотча. Она приготовила молочную смесь, держа меня на руках, а затем отнесла к маме и вложила в ее подготовленные для этого руки. Мама покормила меня из бутылочки — я сосала молоко так торопливо, что Бернадетт боялась, что я захлебнусь. Затем я крепко заснула, а мама, не говоря ни слова, встала и вышла из квартиры, закрыв за собой дверь. Берни проследила в дверной глазок, как мама отнесла меня в нашу квартиру дальше по коридору.
Берни говорила, что весь день волновалась за нас, но не могла подойти к нашей двери из-за агорафобии. Она чуть не умерла от беспокойства, зная, что мы совсем рядом, но она не может нам помочь. Несколько раз она приоткрывала входную дверь и звала нас, безуспешно надеясь, что мама услышит ее и откроет дверь. Часами она расхаживала взад и вперед по квартире, пытаясь придумать, что делать.
Она хотела позвонить в полицию, но боялась, что они плохо обойдутся с нами. Берни не доверяла никому из внешнего мира. Она думала попытаться добраться до нашей двери ползком, но знала, что ей это не под силу. И тогда Берни вспомнила о старой двери, которую как-то видела в платяном шкафу у себя в прихожей. Она подбежала к шкафу, расчистила две верхние полки и выдернула их из пазов, чтобы подобраться поближе к задней стенке. Затем приложила ухо к двери и услышала, как я плачу с другой стороны!
На двери не было ручки, но она не была заколочена, так что Берни нашла отвертку и вставила ее на место ручки. Она повернула отвертку несколько раз, и дверь открылась, «как банка с огурцами». Я лежала на подушке посреди кухни, в том же мокром полотенце, и, изо всех сил сжимая кулачки, ревела во весь голос. Мама спала рядом в своем плаще, свернувшись калачиком.
С тех пор Бернадетт всегда приходила к нам через эту дверь. Она научила маму греть мои бутылочки и проверять воду для купания локтем, чтобы она была правильной температуры. Все, чему Бернадетт не могла научить маму, она делала сама. Она читала мне, пела мне песенки. Научила меня читать и писать. Бернадетт говорила, что я родилась удачливой, но я думаю, что мое везение началось в тот день, когда она нашла ту дверь, а потом и нас с мамой на кухонном полу.
Бернадетт говорила, что наша квартира была почти пустой, когда она впервые туда пришла. Несколько предметов разномастной мебели, немного одежды в шкафу, кое-что из посуды на кухне, детские вещи и пачка жевательного мармелада — вот и все. Она попыталась отыскать какое-нибудь имя — на конверте или в адресной книге, в сумочке или кошельке, но безуспешно. По ее словам, мы с мамой словно свалились с неба.
Не знаю, была ли Бернадетт бережливой от природы или стала такой со временем, но она никогда ничего не выбрасывала. Пока я не выросла настолько, чтобы самой выносить мусор, все, что нельзя было протолкнуть в мусоропровод или измельчить и спустить в унитаз, оставалось в квартире. Мебели у Бернадетт было так много, что ее с лихвой хватило бы на то, чтобы обставить несколько квартир. Многое в нашем доме было кое-как залатано и держалось на клейкой ленте, но, по словам Бернадетт, незачем было выбрасывать то, что было в П.П. — полном порядке.
После того как Берни нашла нас, она задала маме много вопросов, но быстро поняла, что, даже если мама и знала, о чем ее спрашивают, у нее не хватало слов, чтобы ответить. Все, что Берни смогла выпытать у мамы, были наши имена — Хайди и Сууф И. Я. Так, по словам мамы, ее звали.
Берни ей не поверила и спрашивала ее снова и снова, но ответ был всегда один. Сууф И. Я. Мама не умела читать или писать свое имя, так что Берни пришлось самой решить, как оно пишется.
— Каждый заслуживает, чтобы у него были имя и фамилия, а еще лучше, если между ними можно втиснуть инициал, — говорила она.
Так маму стали звать Сууф И. Я, а ее фамилия, Я, хотя и довольно странная, стала и моей.
Когда мне исполнилось пять — возраст, в котором дети обычно начинают дошкольное образование, — я осталась дома.
Бернадетт решила заниматься со мной сама. Я никогда не спрашивала, почему не хожу в школу с остальными пятилетками, потому что не знала об их существовании. Я не знала ни других пятилеток, ни вообще других детей. Не считая Зандера.
Имя Зандер было уменьшительным от Александра. Он был на пять лет старше меня и довольно толстым. Бернадетт говорила, что нехорошо называть людей толстыми, даже если это правда, но, учитывая, как он назвал меня, когда я впервые его встретила, мне было ни чуточки не стыдно. Случилось это, когда я выносила мусор.
— Что значит «тормоз»? — спросила я Бернадетт, когда вернулась домой.
— Тормоз происходит от тюркского turmaz — подкладка для колес арбы, и в современном языке значит «устройство для замедления или остановки машины», — пояснила она.
— Да, но что это значит, когда тебя кто-то так называет? — спросила я.
— Обычно это значит, что тот, кто это говорит, болван.
— Значит, Зандер с первого этажа — болван? — уточнила я.
— Полагаю, что да, — сказала она.
Зандер действительно не отличался особым умом, и, поскольку мое первое впечатление о нем было не самым приятным, я старалась избегать его, пока однажды не столкнулась с ним еще раз — снова, когда выбрасывала мусор. Зандер сидел на лестнице и ел печенье с кремовой начинкой — и вдруг предложил одно мне. Бернадетт не разрешала такой вредной пищи у нас дома — она говорила, что это пустая трата денег и, кроме того, такая еда плохо влияет на, мозг. Зандер обожал все вредное — чем вреднее, тем лучше, что, полагаю, доказывало ее правоту. Кроме еды, Зандер любил давить муравьев между пальцами, но больше всего на свете он любил разговаривать.
Со временем у нас с Зандером установился маленький ритуал. Каждый день мы встречались на первом этаже в три пятнадцать, когда он приходил домой из школы, и болтали на ступеньках у входа. Мне многое не нравилось в Зандере. Он ругался, от него частенько плохо пахло, и меня возмущало, что он делал с муравьями. Но я любила слушать, как он говорит.
Обычно, стоило нам сесть, Зандер отсыпал мне горсть очередных сладостей и начинал одну из своих историй. Он обожал рассказывать истории. Некоторые из них ему особенно нравились, и он рассказывал их снова и снова — например, про то, как он однажды нашел на улице мешок стодолларовых купюр и закопал его в лесу в коробке из-под печенья. Еще он любил рассказывать про то, что его отец был героем войны.
Дома, с Бернадетт, разговаривать было просто. Мы всегда говорили друг другу, что думаем или чувствуем, или делились чем-то важным. Слова путешествовали по прямой. Но когда говорил Зандер, девять раз из десяти он искажал правду до неузнаваемости. После каждой невообразимой лжи он говорил: «Чистая правда, клянусь слюной моей матери», и я с серьезным видом кивала, давая понять, что верю каждому его слову.
Я не была глупа и прекрасно знала, что Зандер безбожно врет, но не хотела, чтобы он замолкал. Его ложь завораживала меня. Бернадетт говорила, что люди лгут, когда им слишком тяжело принять правду, так что каждый день, когда я сидела с ним рядом, грызя какое-нибудь печенье и не спуская с него глаз, я слушала только наполовину. Другая моя половина пыталась в это время понять, какой на самом деле была правда.
Когда я познакомилась с Зандером, он ходил в третий класс начальной школы «Скарлетт Элементари» в южной части города. Бернадетт, приняв решение не отправлять меня в школу, наказала мне говорить всем, что я на домашнем обучении.
Каждое утро мы занимались «школой» за кухонным столом. Вначале мама сидела вместе с нами — особенно когда мы проходили алфавит. Но через некоторое время, когда я выучила буквы и цифры и перешла к другим предметам, мама стала проводить это время за раскрашиванием картинок. Бернадетт покупала маме кучу книжек-раскрасок, и у нас была большая коробка из-под обуви, полная восковых мелков. Мама обожала раскраски. Она постоянно залезала за контуры и использовала один цвет для каждой картинки, но ей это нравилось и занимало ее, пока Берни выступала в роли моей учительницы.
— Синий! — кричала мама из соседней комнаты, каждый раз, когда заканчивала очередную картинку.
— Молодчина, Пикассо! — кричала Берни ей в ответ.
Мама использовала все мелки — желтый, розовый и мой любимый фиолетовый, но каким бы цветом она ни пользовалась, она называла его синим. Иногда я думала, что, возможно, это потому, что она видит всего один цвет, и мне было грустно оттого, что в мамином мире может не быть розового, желтого или фиолетового. Но я знала, что мама меня любит, хотя у нее не было для этого слов, и поэтому я решила, что с цветами было так же — то, что у нее не было для них слов, не значило, что она их не видит.