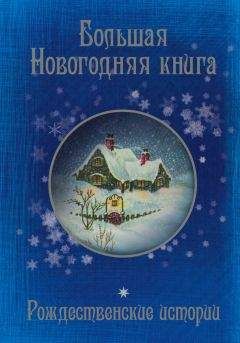Убедившись, что настаивать бесполезно, посетители удалились.
Довольный собою и в необычно шутливом настроении, Скрудж снова принялся за работу.
Между тем мрак и туман сделались так густы, что появились факельщики, предлагавшие освещать дорогу проезжавшим экипажам. Старинная церковная башня, с готической амбразуры которой всегда косился на Скруджа мрачный викинг, сделалась невидимой; колокол вызванивал теперь часы и четверти где-то в облаках, и каждый удар его сопровождался дребезжанием, точно там, в вышине, стучали в чьей-то окоченевшей от холода голове зубы. Становилось все холоднее. Против конторы Скруджа рабочие чинили газовые трубы, разведя большой огонь, и около него столпилась кучка оборванцев и мальчишек: они с наслаждением грели руки и мигали глазами перед пламенем. Водопроводный кран, который забыли запереть, изливал воду, превращавшуюся в лед. Свет из магазинов, в которых ветви и ягоды остролиста потрескивали от жары оконных ламп, озарял багрянцем лица проходящих. Лавки с битой птицей и овощами совершенно преобразились, представляя дивное зрелище, и трудно было поверить, что со всем этим великолепием связывалось такое скучное слово, как торговля.
Лорд-мэр в своем дворце отдавал приказания пятидесяти поварам и дворецким отпраздновать Рождество сообразно его сану. И даже маленький портной, которого он оштрафовал в прошлый понедельник на пять шиллингов за пьянство и буйство на улице, мастерил у себя на чердаке пудинг, в то время как его тщедушная жена, захватив с собой ребенка, пошла в мясную лавку.
Туман густел, холод становился все более пронизывающим, колючим, нестерпимым. Если бы добрый святой Дунстан не своим обычным орудием, а этим холодом хватил бы по носу дьявола, тот, наверное, взвыл бы как следует. Некий юный обладатель крохотного носика, до которого лютый мороз добрался, как собака до кости, прильнул к замочной скважине Скруджа с намерением пропеть рождественскую песнь. Но при первых же звуках:
Пусть вас Бог благословит,
Пусть ничто вас не печалит, –
Скрудж с такой энергией схватил линейку, что певец в ужасе бросился бежать, предоставляя замочную скважину туману и морозу, столь близкому душе Скруджа.
Наконец наступил час запирать контору. С неохотой слез Скрудж со своего кресла, подавая тем знак давно ожидавшему этой минуты писцу, что занятия окончены, и тот мгновенно потушил свечу и надел шляпу.
– Вы, вероятно, хотите освободиться от занятий на весь завтрашний день? – сказал Скрудж.
– Если это удобно, сэр.
– Это не только неудобно, это еще и несправедливо, – сказал Скрудж. – Ведь, если бы я вычел в этот день полкроны, я убежден, что вы сочли бы себя обиженным.
Писец слабо улыбнулся.
– И однако, – сказал Скрудж, – вы и не думаете, что я могу быть обсчитан, платя вам даром жалованье.
Писец заметил, что это бывает только раз в году.
– Слабое оправдание, чтобы тащить из моего кармана каждое двадцать пятое декабря, – сказал Скрудж, застегивая пальто вплоть до подбородка. – Но так и быть, весь завтрашний день в вашем распоряжении. Послезавтра утром приходите пораньше.
Писец пообещал, и Скрудж, ворча, вышел. Писец в одну минуту запер контору и, размахивая длиннейшими концами своего шарфа (пальто у него совсем не было), прокатился в честь сочельника раз двадцать по льду в Коригилле, вслед за шеренгой мальчишек, и во весь дух пустился домой.
Скрудж съел свой скучный обед в своем скучном трактире и, перечитав все газеты, скоротав остаток вечера за счетоводной книгой, отправился домой спать. Он жил там же, где когда-то жил его покойный компаньон. То была анфилада комнат в мрачном и громадном здании на заднем дворе, которое наводило на мысль, что оно попало сюда еще во дни своей молодости, играя в прятки с другими домами, да так и осталось, не найдя выхода.
Здание было старое и угрюмое. Никто, кроме Скруджа, не жил в нем, ибо все другие комнаты отдавались внаем под конторы. Двор был так темен, что даже Скрудж, отлично знавший каждый его камень, с трудом, ощупью, пробирался по нему. В морозном тумане, окутывавшем старинные черные ворота, чудился сам Гений Зимы, стороживший их в печальном раздумье.
Поистине, в молотке, висевшем у двери, не было ничего странного, разве только то, что он отличался большими размерами. Сам Скрудж видел его ежедневно утром и вечером, все время своего пребывания здесь. Притом же Скрудж, как и все обитатели лондонского Сити, не исключая и старшин, и членов городского совета и цехов – да простится мне великая дерзость! – не обладал ни малейшим воображением.
Не надо также забывать и того, что до сегодняшнего дня, когда Скрудж упомянул имя Марли, он ни разу не вспомнил своего усопшего друга.
А поэтому пусть, кто может, объяснит мне теперь, как произошло то, что, вкладывая ключ в замок, Скрудж увидел в молотке, хотя последний не подвергся ровно никакой перемене, лицо Марли.
Лицо Марли! Оно не было окутано темнотой подобно другим предметам на дворе, но, окруженное зловещим сиянием, напоминало испорченного морского рака в темном погребе. Лицо не было сурово или искажено гневом, но было именно такое, как при жизни Марли, даже с его очками, приподнятыми на лоб. Волосы странно шевелились, точно от дуновения горячего воздуха, широко раскрытые и неподвижные глаза, свинцовый цвет лица, – все это делало его ужасным; но главный ужас все-таки скрывался не в самом лице или выражении его, а в чем-то постороннем, непостижимом.
Видение тотчас же снова становилось молотком, как только Скрудж пристально вглядывался в него.
Было бы неправдой сказать, что Скрудж не испугался и не ощутил волнения, забытого им с самых детских лет. Однако после некоторого колебания он решительно взялся за ключ, крепко повернув его, и, войдя в комнату, тотчас зажег свечу.
Помедлив в нерешительности несколько мгновений, прежде чем запереть дверь, он осторожно оглянулся, точно боясь увидеть за дверью косичку Марли. Но за дверью не было ничего, кроме винтов и гаек молотка. И, издав неопределенный звук, Скрудж крепко захлопнул дверь.
Стук, подобно грому, раскатился по всему дому. Каждая комната в верхнем этаже дома и каждая бочка в винном погребе отвечали ему. Заперев дверь, Скрудж медленно прошел через сени вверх по лестнице, на ходу поправляя свечу.
По этой лестнице можно было бы провести погребальную колесницу, поставив ее поперек, дышлом к стене, а дверцами к перилам, причем осталось бы еще свободное пространство. Может быть, это и заставило Скруджа вообразить, что он видит во мраке погребальную колесницу, которая двигается сама собою. Полдюжины газовых фонарей с улицы слабо освещала сени, и, следовательно, при свете сальной свечи Скруджа в них было довольно темно.
Скрудж шел вверх, мало беспокоясь об этом. Темнота стоит дешево, а это Скрудж очень ценил. Однако, прежде чем запереть за собой тяжелую дверь, он под влиянием воспоминания о лице Марли прошелся по комнатам – посмотреть, все ли в исправности.
В гостиной, спальне, чулане все было как следует: никого не было ни под столом, ни под диваном, маленький огонек тлел за решеткой камина. Вот ложка, кастрюлька с овсянкой в устье камина – и никого ни под постелью, ни в стенном шкапу, ни в шлафроке, как-то подозрительно висевшем на стене. Все как всегда: чулан, каминная решетка, старые башмаки, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках, кочерга. Успокоившись, Скрудж запер дверь, повернув ключ два раза, чего прежде никогда не делал.
Предохранив себя таким образом от нападения, Скрудж снял галстук, надел шлафрок, туфли и ночной колпак и сел перед огнем, чтобы поесть овсянки.
Для такой лютой ночи этот огонек был чересчур мал. Скрудж должен был сесть очень близко к нему и нагнуться, чтобы от этой горсточки углей почувствовать едва уловимое дыхание теплоты.
Старинный камин, сложенный, вероятно, давным-давно голландским купцом, был обложен голландскими кафелями, украшенными рисунками из Святого Писания. Тут были Каин и Авель, дочери фараона, царица Савская, вестники-ангелы, парящие в воздухе на облаках, похожих на перины, Авраам, Валтасар и апостолы, отправляющиеся в плавание на лодках, напоминающих соусники, и сотни других забавных фигур. И однако лицо Марли, умершего семь лет тому назад, поглощало все. Если бы каждый чистый кафель мог запечатлеть на своей поверхности образ, составленный из разрозненных представлений Скруджа, то на каждом таком кафеле появилось бы изображение головы старика Марли.
– Вздор все это! – сказал Скрудж и, пройдясь по комнате взад и вперед, снова сел. Откинув голову на спинку стула, он случайно взглянул на старый, остававшийся без употребления колокольчик, предназначенный неизвестно для какой цели и проведенный в комнату в верхнем этаже дома. Смотря на него, Скрудж с безграничным удивлением и необъяснимым ужасом заметил, что колокольчик начал качаться. Сначала он качался так тихо, что звука почти не было, но потом зазвонил громче, и тотчас же к нему присоединились все колокольчики в доме.