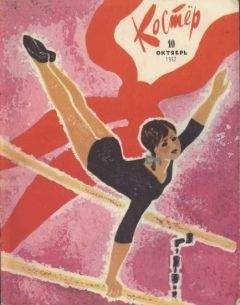Ополченцы хрипло сказали «Ура!», повернулись под команду и двинулись в направлении Гжатска, навстречу неприятелю.
Были они в своей обычной крестьянской одежде, в какой выходили на пахоту или уборочную: в стареньких пиджаках, ватниках, брюках, заправленных в сапоги, кепчонках и фуражках. За плечами каждого висел мешочек — сидор со сменой белья, портянками, полотенцем и мылом. Никакого оружия у них не имелось — ни огнестрельного, ни холодного. Лишь у командира, секретаря партийной организации колхоза, на ремне висела пустая револьверная кобура, заменявшая ему планшет. Может быть, оттого, что у ополченцев был такой гражданский вид, никто не голосил, не плакал. Просто не верилось, что этих пожилых, мирных и безоружных людей ждёт кровопролитное сражение.
Ополчение вышагнуло за деревню, одолев заросший бузиной овраг, когда возле строя возник, будто из воздуха родившись, Алексей Иванович Гагарин.
Анна Тимофеевна, принимавшая участие в проводах ополченцев, увидела мужа, хотела броситься за ним, но вдруг раздумала.
К хромому добровольцу подошёл командир ополчения и что-то сказал ему. Алексей Иванович сделал вид, что не слышит, и продолжал шагать в строю. Командир приблизил ладонь ко рту, бросил какую-то команду, ополченцы прибавили шагу. Гагарин изо всех сил старался не отстать.
Ополчение перевалило через бугор и двинулось чуть не на рысях в ту сторону, где небо обливалось зарницами залпов. Гагарин отстал. Он напрягался во всю мочь, но против рожна не попрёшь — не позволяла калеченая нога держать шаг наравне с остальными. Он оставал всё сильнее и сильнее. Потом остановился, грустно и сердито поглядел вослед уходящим, плюнул и повернул назад.
— Так-то!.. — прошептала Анна Тимофеевна и утёрла взмокшее лицо.
Она видела, что Алексей Иванович пошёл задами деревни, сквозь заросли крапивы, малины и чертополоха к дому, и, щадя его потерпевшее урон самолюбие, сказала крутившемуся поблизости Юрке:
— Давай к тётке Дарье заглянем, она мне дрожжей обещала.
По пути им попался могильный холмик с деревянной оградой и белым, источенным мохом камнем, на котором не разобрать стёршейся надписи. Холмик был усыпан поздними осенними цветами: астрами, георгинами, золотыми шарами.
Анна Тимофеевна сдержала шаг.
— Видал? Хорошо было — вовсе забросили могилку Ивана Семёныча. Пришло лихо — вспомнили, кто тут Советскую власть делал.
— Мамань, его белые убили?
— Мятеж контрики подняли, сразу после Октябрьской революции. Ну, некоторые деревенские коммунисты в подполье ушли, а Сушкин Иван Семёныч отказался. «Я, говорит, ничего плохого не сделал, зачем мне прятаться?» Чистой, детской души был человек. Прискакали сюда конные, взяли Ивана Семёныча прямо в избе, повели на расстрел, да не довели, насмерть прикладами забили.
Постояли, посмотрели на могилу первого клушинского коммуниста мать с сыном и двинулись дальше.
У сына потом было много всякого в жизни, но этот холмик посреди деревни не забывался…
— Я не скажу про всех немцев, они всякие бывали, — рассуждала Анна Тимофеевна. — Конечно, нам судить о них трудно. Кабы они у себя дома сидели — один разговор, а то ведь к нам припёрлись, хотя их никто не звал. Поэтому был для нас каждый немец прежде всего оккупант. И нету другого правила в чёрное военное время, кроме одного: «Смерть проклятым оккупантам!» Ну, а по мелочам различия между ними, конечно, имелись, были такие, что тихо себя вели, и мы от них глаз не прятали.
А вот на Альберта лишний раз глянуть боялись, чтобы не заметил он нашу нестерпимую к нему ненависть. Война людей раскрывает и в хорошую, и в дурную сторону. Но Альберту, уверена, война не требовалась, чтобы обнаружить всю его гнусную сущность. Он и в мирном расцвете был жирной, поганой кусачей вошью.
Очень хорошо помню, как Альберт у нас появился. Немцев уже порядком в Клушино наползло, а наш дом чего-то не занимали. Поди, не нравилось, что он с краю стоит. И решила я хлебов напечь, в последний, может, раз. Замесила на ночь тесто, а на рассвете растопила печь, и пошла писать губерния! Спеку калабашку, Зоенька её в бумагу обернёт, а Юрка на терраске под порогом схоронит. Был там у нас тайничок. Только мы управились и печь загасили, прикатывает на «козле» этот Альберт, здоровенный, задастый, румяный, годов тридцати. Сбросил на пол рюкзак, автомат, противогаз, кинул на кровать вшивую шинельку.
«Их бин, — говорит, — фельдфебель Альберт Фозен с Мюнхену. Тут, — говорит, — ганц гут унд никст швейнерей».
Мол, у вас в избе чисто, никакого свинюшника. И он здесь останется. Осчастливит, можно сказать, нас своим присутствием.
Потом втянул воздух и аж задрожал под мундирчиком и сразу все русские слова вспомнил.
«Эй, матка, давай брот, булька, хлиеб!»
«Никст, пан, брот, — отвечаю. — Откуда хлебу-то взяться? Твои камрады подчистую весь брот, всю муку забрали».
Он в свой нос тычет:
«Врать, врать! Рус всегда врать! Хлиеб есть!..»
«Нету, пан!.. Никст!.. Не веришь, сам поищи!»
И начали мы наперегонки хлопать крышками ларей и сусеков: гляди, мол, сам — нет ни крошки.
Но уж слишком он раздразнился. Это понять можно. Немцы и вообще-то поголадывали, а этот такой из себя здоровенный, видать, мучной и жирной пищей вскормленный, ему, конечно, труднее других тело сохранить. Выскочил он наружу и окликнул прыщавого малого в немецких брюках, сапогах и ватнике. Паршивец этот был наш, гжатский, у немцев толмачом работал. Он вошёл, и ему тоже запахло свежим хлебушком.
«Будет вам дурочку строить, — говорит, — вы немца обмануть можете, только не меня. Пекли вы хлеб ночью или вчера вечером».
«Пекли, нешто мы отказываемся? Забрали у нас всё до крошки. Чересчур оголодовала ихняя армия».
Он поглядел сумрачно:
«Помалкивай, целее будешь».
«Спасибо, — отвечаю, — за добрый совет».
Тут Альберт чего-то заорал, слюнями забрызгал и на дверь руками машет.
«Он говорит, чтобы вы катились отсюда к чёртовой матери».
«Куда же мы пойдём из собственного дома?»
Альберту мои слова и переталдычивать не пришлось.
«Цум тейфель!» — орёт. К чёрту, значит. «Ин дрек!» Понятно?.. «Ин бункер! Ин келлер!» Это по-ихнему — в погреб…
Вроде бы уже хорошо объяснил, а всё остановиться не может, орёт и орёт, давясь словами. Пришлось толмачу за дело взяться.
«Он говорит: забудьте, что это ваш дом. Это его дом. Он будет здесь жить всегда. Он привезёт сюда свою жену Амалию и деток. А вы будете служить им, и ваши дети будут служить, и ваши внуки».
Переводит, а сам в носу колупает и на пол сорит. Никакого стеснения, будто и не люди перед ним. А может, он себя из людей вычеркнул, потому и стыда лишился? — задумчиво произнесла Анна Тимофеевна…
Толмач чего-то ещё бормотал, но тут Алексей Иванович не вытерпел:
«Ладно, хватит, заткни фонтан! Мы и сами тут не останемся. Нам вольного воздуха не хватает!»
Семья Гагариных переселилась в погреб, на краю огорода, и обитала там до самого изгнания немцев.
А муж Амалии, мюнхенский уроженец Альберт, занял избу, в сарае оборудовал мастерскую для зарядки аккумуляторов. Таким, в сущности, мирным, хотя и необходимым для ведения войны, делом помогал фельдфебель гитлеровскому вермахту. Но его дурная и активная натура не находила полного удовлетворения в технической работе. Альберту необходимы были люди для издевательства и угнетения. В отличие от своих аккумуляторов, он был постоянно заряжен — на зло.
Однажды гагаринские ребята от нечего делать занялись раскопками против сарая, где Альберт возился с аккумуляторами. Они выковыривали из мёрзлой земли то обломок штыка, то старинного литья пулю, то разрубленную кирасу, то ржавый ружейный ствол.
Заинтересованный их добычей, Альберт вышел из сарая.
— Oh, Kugeln!.. Eine Flinte!.. Das ist verboten!..[1]
— Старое… От французов осталось, — пояснил Юра.
— Franzosen?.. Warum Franzosen?[2]
— Наполеон через наше Клушино на Москву шёл.
— Nach Moskau? Wir auch gehen nach Moskau![3]
— Ага! Сперва «нах», а потом «цурюк»! Ребята засмеялись.
— Мы не будем «цурюк»! — разозлился Альберт. — Nur drang nach Osten![4]
— Дранг нах остен, драп нах вестен! — закричали ребята и кинулись врассыпную.
Лишь меньший Юрин брат, Борька, никуда не побежал. Да и куда мог он убежать на своих слабых, кривоватых ногах, едва освоивших тихий, валкий шажок? В младенческом неведении он выедал мякишек из хлебной горбушки и радостно смеялся, сам не зная чему. Альберт схватил его и повесил за шарфик на сук ракиты. Борька выронил горбушку и ужасно закричал. Теперь пришла очередь веселиться Альберту. Он вернулся в сарай и со вкусом принялся за работу, поглядывая на подвешенного к суку, словно ёлочная игрушка, мальчонку, который сперва орал, потом хрипел, потом сипел, наливаясь свекольной кровью — захлёстка постепенно затягивалась на горле, — и злое сердце Альберта утешалось…