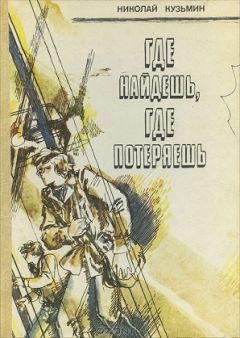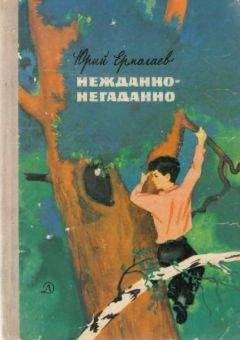— Ну, без перекуров, про обед забываешь, сверхурочно остаешься. Все деньги не заработаешь, а пуп надорвешь.
Ромка вспыхнул: опять та же петрушка!..
— Да не из-за денег я, — попытался пояснить. — Почему все заладили: деньги, деньги! Неужели только ради них трудимся? Мне просто нравится работать, хочется сделать больше. И если я все же учитываю получку, то лишь потому, что она показывает, на что я способен, оценивает лично меня. А если бы мой труд все знали и уважали по числу приладок и копировок, то и на деньги наплевать…
Ромка говорил еще долго и не очень понятно для напарника. Он философствовал, распаляясь, и ненарочно уводил от основной темы, из-за которой затеян муторный разговор. Хорошо, из цеха вышел начальник, на минутку встал перед ними.
— Волох, и ты курить начал? — улыбнулся служебно.
— Да нет, — опередил Виктор ответом, — он не курит, просто со мной за компанию сидит. Отдыхаем, значит.
— A-а! Ну отдыхайте, отдыхайте. Как у вас вентилятор? Не жарко? Новая пленка поступила? Профилактику провели?
Кивнув заранее известным сообщениям, начальник сошел по лестнице, и Ромка подумал продлить свою речь, но оказалось — сбился с мысли. Виктор тотчас использовал эту заминку.
— Все ясно, — сказал, — и я с тобой согласен, Роман Андреевич. Смысл жизни… Духовные ценности… Но ты при этом вот что пойми. Я бы тоже мог вкалывать как черт, а почему-то не вкалываю.
— Ленишься, — в сердцах буркнул Ромка.
— Нет, — Виктор чуть не обиделся, поскольку предвидел такой выпад, — я не ленюсь. Тут есть одна загвоздка, один странный фокус. Если я начну расшибаться в лепешку, знаешь, что у меня получится?
— Что?
— Рублей четыреста, вот что! И даже больше. Ты по своей работе суди. Только обучился, а уже сто тридцать выгнал. А я десять лет на фабрике, вдвое быстрей тебя могу. И без брака. Вот и прикинь…
Ромка прикинул, почувствовал неладное, но глубже в производственные дебри не проник, оттого и снаивничал на правах новичка:
— А чего? Пускай платят четыреста. Чем плохо?
— Да кто же такой заработок пропустит? — воодушевился целенаправленностью спора Виктор. — Существуют фонды, отдел труда и зарплаты, нормировщики… Будь уверен, четыреста в месяц не дадут.
— То есть как — не дадут? Если честно трудился…
— А так. Расценочки в гору, потом кувыркайся.
— Вот чего ты боишься! — осенило Ромку. — Значит, потихонечку, полегонечку, по малым расценочкам…
— Да ведь первый в трубу вылетишь! — перебил Виктор.
— А мне четыреста не обязательно.
— Ста не получишь!
— За меня не беспокойся, проживу.
— Пойдут дешевые заказы или простои, что запоешь?
— Арию Ленского.
— Все шуточки! — поражаясь, воскликнул Виктор. — Но ведь не тебя одного касается, Роман Андреевич! Легко геройствовать, когда папа, мама, один сынок в семье. А ты подумай! Нас в две смены четверо на станках, и у каждого, кроме тебя, старики, дети…
По лестнице ходили вверх и вниз посторонние работники, заставляя Виктора периодически умолкать. В моменты вынужденных пауз он суетливо чиркал спички, подносил огонь к дымящейся папиросе, и Ромка, заметив это, усомнился в бесспорности своих взглядов, тоже нервничать стал. Ведь и правда, при невыгодной сдельщине да по взвинченным расценкам хорошего заработка не получится. И выходит, люди недоедят, недопьют, малышам шоколадку не купят из-за его чрезмерного рвения и ненужной принципиальности, которая предательством отдает.
— Что же ты предлагаешь? — спросил он Виктора в панике.
— Думай сам, — горестно и дипломатично ответил тот. — Но еще учти: тебе сейчас все в охотку, дорвался до станка. А ведь долго без обеда, без отдыха не протянешь. По любой научной организации труда работаешь ты неправильно, себе и другим во вред. Знаешь, автомобили на испытаниях делают рывок предельной скорости? Потом ни один так не ходит, само собой. Вот и ты сейчас — рывок у тебя, глупое чемпионство. А по нему установят норму. Думай сам…
Ромка думал. Думал весь остаток смены и даже после, возвращаясь домой. Но сколько он ни вертел эту простенькую на вид и вместе с тем язвительную задачку жизни, как ни раскладывал ее на составные части и не складывал вновь, результат был один: замкнутый круг. Такие казусы умственного бессилия случались и прежде, но то «мировые проблемы» или же сугубо личные неразрешимости. Там Ромка в конце концов мог положиться на бездоказательное чутье, мог заблуждаться, или отсрочить ответ самому себе до момента прозрения. Здесь же, в конкретной и коллективной обстановке, уповать на подсознание, оттягивать вывод, от которого зависели многие, он не смел и потому яростно, без передышки грыз и грыз этот первый свой житейский орешек.
Эх, Ромка, Ромка! Где было взять опыта и рассудительности, когда не только орешки, но семечки бытоявлений часто приходились ему не по зубам? Порой, угодив в мимолетную передрягу, которая затрагивала его честность и честь, он выводил скоропалительную огульную формулу: трудно, почти невозможно быть порядочным в человеческом коловращении. Жизнь предлагала на выбор два варианта: противоборствовать всем и всему, оставаясь при этом в дураках, или пособничать, процветая, повсеместной скверне и обману. Третьего было не дано, на Ромкин максималистский взгляд. В самом деле кошмар какой-то! Лишь огромный запас оптимизма выручал юного мыслителя из его надуманных бездн. Спустя некоторое время первая же добрая улыбка рассеивала угрюмые Ромкины построения. Возможно, потому оплеухи и затрещины удручающих происшествий ничему не учили Ромку, а горький опыт не западал впрок. Но отчего так, если в корень смотреть? Из какого же он теста, этот неотступный Роман Андреевич Волох? Для уяснения причин его относительной необычности заглянем мимоходом в Ромкино прошлое, в недалекое еще детство…
Чебурашка тогда еще не был изобретен, и потому никто не замечал Ромкиного сходства с ним, не воспользовался подходящим прозвищем — звали Румыном. Приземистый, белобрысый, с большущими, как бы навечно удивленными глазами на чересчур круглом лице, курносый и с развесистыми ушами, долго казался Ромка многим сверстникам никчемным мальчишкой третьего сорта. Отсюда, пожалуй, могли проистекать некоторые особенности его биографии и характера — довеском к предписанному природой, судьбой.
— Икона ты, на тебя молиться надо, — язвительно рассуждал записной остроумец класса и демагог Сережа Гусев. — Поразительно, как в наш век тебе удалось сохранить эту наивность, эту веру в людей? Я тебе завидую! Святая простота… Я был бы счастлив, умея так приятно заблуждаться. Легко тебе жить, Румын. Но, понимаешь, завидуя и почитая, я ни за что не согласился бы оказаться в твоей шкуре. Непорочность должна воплощаться в идолах, но не в людях. Рядом с тобой мы, полнокровные, чувствуем неловкость, какую-то вину. Мы готовы тебя возносить, проверять тобой свои поступки, как эталоном, но ангельской участи твоей мы не хотим.
— Мы, мы… Полномочный представитель, — пробурчал тогда Ромка, подозревая, однако, что Гусев по-своему прав. — А уж так ли ты хорошо меня знаешь?
— Знаю ли я тебя? — переспросил остроумец. — Вопрос риторический, — ответил. — Человек не способен познать даже самого себя. Между тем существует условное человековедение. Мы понимаем друг друга схематично. Но этих схем вполне достаточно, чтобы утверждать: я знаю. Ты, Румын, схема простейшая. Есть люди широкого диапазона страстей, пороков и добродетелей. У тебя все в одном направлений. Одноклеточный ты, чего ж тут не знать? Только, чур, без обиды!..
Дальше, окончательно уничтожая приятельские отношения с Ромкой, Сережа заявил, идя на поводу своего красноречия:
— Чтобы ощутить себя личностью, нужно на что-то опереться. Будь объективным, Румын. Ты не блещешь ни внешностью, ни силой, ни интеллектом. Чем тебе жить? Только благородством, нравственной чистотой. Не имея других средств утвердить себя, ты обречен быть высокоморальным парнем. Как евнух — безбрачным. Как баран — травоядным. Но баран, учти, не убивает других животных вовсе не потому, что жалеет. Добродетель — состояние вынужденное. Понятно я говорю?
Оставим на совести Гусева его заимствованные где-то суждения, как это сделал и сам Ромка. Правда, к концу откровенной беседы у него здорово чесались кулаки и ком обиды распирал горло, однако в семнадцать лет, полагаясь на умственную мускулатуру, юноши по возможности избегают мальчишеского способа решения проблем. Ромка отстранился тогда, не подав вида, зато после и руки своей Сереже больше не подавал. А тому и горя мало, такой он был сверхчеловек, такая личность!
Превозмочь вероломный удар остроумца помогла Ромке Наташа. Выслушав отчаянный его пересказ, а затем сбивчивые соображения, что по логике Гусева не осудишь — все честно, в открытую, — она, не мудря, сказала: