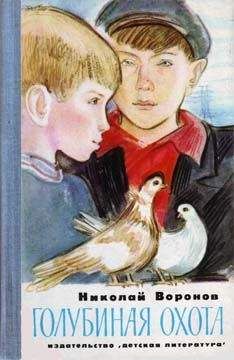Официант — он приготовился подкусить широту кавалера с черной челкой — обрадовался его неожиданному дружелюбию, потому что ему хотелось поглазеть на милую девчонку, у которой необычайный цвет волос — голубые сквозь сигаретный дым — и которая совсем не походит на фиолетово-чулочных разгульных малолеток. Он уверился, что не ошибся: Маша слегка пригубила из бокала шампанского и не стала больше пить, хотя ее и упрашивал заносчивый паренек.
Странно и приятно было Маше смотреть на пьянеющего Владьку. Ей захотелось, чтобы шампанское ударило Владьке в ноги и она бы вела его на поезд, как однажды вела домой англичанка Татьяна Петровна поднабравшегося мужа, а он хорохорился, уверяя Татьяну Петровну, что его любовь к ней безначальна и бесконечна, как время.
Владька выпил почти всю бутылку, но шампанское подействовало ему не на ноги (держался он твердо), а на голову: он безудержно хохотал, рассказывая о гильотинировании великого французского физика Лавуазье.
Над пространством пустыря призрачным облаком вздулась электрическая белизна: то горели в высоте световыми сотами надстанционные прожекторы.
Выпала роса, и запах полыни приятным волнением отзывался в груди.
Владька прельстился тщеславным желанием показать перед Машей свой ум и начал кричать в небо, будто оттуда управляли земной жизнью, что ни за что не променял бы трагическую ненадежность двадцатого века на идилличную безопасность древности.
Приспустив ресницы — он отметил, — Маша уставилась на него, и воодушевленно пустился в импровизацию.
Прощаясь с Владькой, Торопчины целовали его. Он стоял остолбенело-отстраненный. Тогда-то Маша и заметила, какие у Владьки губы. Верхняя губа с глубокой ложбинкой, переходящей по краям в твердо-четкие грани. Если верхняя губа указывала на его властность и целеустремленность, то нижняя, рыхловатая, детская, — на то, что он размазня.
В поезде Маша тревожно вспоминала, что заметила, какие у него губы, и не решалась задерживать на них взгляда. А в кафе она почти неотрывно смотрела на губы Владьки. Потупится или отвернется, и вот уж снова примагнитились глаза к его губам.
Ораторствуя, Владька сопоставлял столетия, общественные формации, идеалы, но это не захватывало Машу. Затронули ее, и то на какую-то минуту, Владькины рассуждения о борьбе сознания. Он так и заявил: «моя теория». Он делил сознание на два рядом текущих потока, струи которых схватываются, отталкиваются, взаимно замутняются. Левый поток — «прометеический»: философские и научно-инженерные открытия, уважение к народу и личности, поиски возвышающихся истин, противодействие тиранам и эксплуатации. Правый, враждебный ему поток — «керберический» (по кличке трехголового пса Кербера, стерегущего Аид), — он отождествлял со всем несправедливым, безмозгло фантастическим, отбирающим надежды, приводящим к изуверству и войнам и, в конечном счете, подготавливающим человечество к самоуничтожению.
Маша постаралась вникать во Владькины умствования, но ей побрезжилось смешное в его хмельном разглагольствовании о вещах больно уж сложных не только для какого-то мальчишки, пусть был бы он и гениален и трезв, а для всех башковитых людей на свете. И все-таки не это отвлекло Машу. Его губы отвлекли. А он-то распинался!
Он отер губы. Не осталась ли на них салатная сметана, пропитанная свекольным соком? Нет. А Маша как уставилась, так и смотрит на его губы. Чем-то ждущим было сосредоточено ее лицо. И вдруг он чмокнул Машу в приоткрытые губы, и отшатнулся, и увидел ее смятение, и виновато ломился за ней через конопляник, попавшийся среди полыни, и просил прощения, и обещал никогда не целоваться.
Ей было радостно, она крепилась, чтобы не засмеяться (если рассмеется, смеяться будет до изнеможения), но в душе-то она смеялась над ним.
Поезд катил по Москве, ее ранняя пустынность насторожила Машу: не случилось ли чего?
Веселый Владька, захлестывая «молнии» чемоданчика, пробовал свистеть, но сквозь его зубы только раздавалось цырканье воздуха. Маша не стала озадачивать его своим соображением о тревожной пустынности Москвы и скользнула за проносившей простыни проводницей.
— Тетя, почему на улице нет народу?
— Дрыхнет народ-от. Народ-от, он тож отдыхат.
— А…
— Вот те и «а». Счас не спит только петух на насесте, мы с тобой да кума с Фомой. Ты чего подумала? Жизнь идет по расписанию. Ну, быват где и застопорится, где и постоит перед семафором, и дальше айда-пошел, аж буксы горят. Ты страхи-от отставляй. Настроение поддерживай. Всяку канитель — через крышу аль плетень.
— Ловко у вас получается.
— Куда как ловко. Муж на войне остался, братья тож. Дочка в бараке сгорела. Я также в вагоне дежурила. Ночью пожар. Провода загорелись. Она спала — не добудишься. У меня все ловко. А у тебя?
— У меня мама в больнице.
— Вылечат. Племянницу летось на производстве автотележкой об стену жулькнуло. Таз раздавило. Думали — калека. Нет, срастили ее. К лету совсем оклемалась. И взамуж собиратся. И маму твою должны вылечить.
— Не сердитесь.
— Нету того в обычае. Кабы все от самих… Накопится сердце, оно и выбрыкнет финтифлюшку. Ты каяться, а ведь не ты выбрыкнула, оно выбрыкнуло.
В прошлый раз, пока ехала на электричке да пока выстояла битый час за билетом, Маша только и успела сбегать в ближний магазин. Машу пугали злобно устремленные стаи легковых машин, и она, добираясь до гастронома и обратно, лишь мельком взглядывала на привокзальную Москву, поэтому ей мало что запомнилось, кроме эстакады, по которой пролетели в паре электровозы, и дылдистого, препятствующего облакам здания, которое казалось заваливающимся через эстакаду. Сквозь опаску, нагнетенную автомобилями и высотной гостиницей, Маше увиделись башенки вокзалов, острые, восхитительно-картинные, но она смутно запомнила их: остался мираж узорно-белого, зеленого, откосного, чешуйчатого.
Под площадью был переход. Владьке не терпелось спуститься в кафельную подземную глубину, но Маша захотела пойти поверху, по площади. Она мечтала вновь увидеть башенки, однако забыла об этом, потому что нежданно поддалась такой тревоге: мать, может, при смерти, а она оттягивала отъезд. Мало ли что билеты на самолет были проданы на пять дней вперед. Другая изревелась бы, но вынудила аэропортного начальника отправить ее. Ночью бы наверняка пересела на Ил-18 и уже была бы возле матери.
У Маши было паническое воображение.
Может, после операции позвоночника мать лежит вниз животом. Сбоит сердце. У здоровой, и то сбоит. Няни и сестры молодые, привыкшие к крови, стонам и к тому, что больные умирают, черствы и не позаботятся повернуть на бок, а мать застенчива, терпелива, не попросит, не пожалуется… И вся ее надежда только на Машу — ухаживать будет, бодрость духа поддерживать, еду приносить. А Маши нет и нет, и мать кручинится, и думает, что Маше поглянулось у отца и она решила у них остаться (один Хмырь вынудит), и позабыла, как мать воспитывала ее, и баловала, пускай украдкой, всякими сладостями не хуже, чем Митьку богатые Калгановы. И сейчас мать, должно быть, хочет умереть.
Чувство вины — как болото. Барахтаешься, барахтаешься и все сильней увязаешь.
Если мать умрет, Маша не сможет жить. Никто не узнает, что мать погибла из-за ее эгоизма, но сама-то Маша будет знать, и этого не преодолеешь.
И она ставила себе в укор то, что ее занимали судьбы «французов», что гипнотизировалась Владькиными губами, что, пересекая площадь, поворачивала щеки к пухово-нежному солнцу.
Владька оставил Машу возле закрытого аптечного киоска — пошел узнавать расписание самолетов.
Хотя Маша и настроилась ни на что не обращать внимания, чтобы думать о матери, она не сумела подавить в себе интереса к залу ожидания, где вповал на скамьях, у скамей и стен спали пассажиры, где цыган лет двадцати с баками до нижней челюсти играл огромным детским воздушным шаром и для забавы перелазил за шаром через скамьи, ухитряясь не наступать на спящих и вещи, где одутловатая буфетчица качала в кружки пиво и его тянули усталые дядьки, посыпая края кружек солью и облокачиваясь о мраморный прилавок, а под потолком перелетывали бесшабашные воробьи.
Вернулся Владька с деятельным выражением лица. Есть самолет десятичасовой. Сподручней лететь с тем, который отправляется в шестнадцать десять. Сейчас они позавтракают. Он разведал укромный буфетик. Потом схватят такси — метро еще не работает — и поедут на Софийку, нет, теперь набережная Мориса Тореза. Там он заскочит к родственникам, а Маша тем временем полюбуется Кремлем. Ниоткуда так не прекрасен вид на Кремль: ни с Красной площади, ни с Манежной, ни с Каменного моста, ни с Москворецкого — как с набережной Тореза. Они походят по улицам, пока не начнут пускать в Кремль. Потом осмотрят его и поедут на Ленинские горы, а оттуда он проводит ее к поезду.