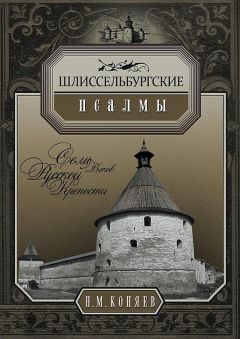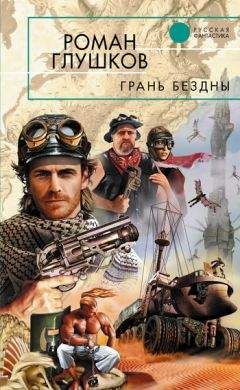— О нет! Помилуй Бог!
— Так в чем же ты винишься? Ну?
— В том, государь, что ослушался твоей воли царской.
И, не выжидая дальнейших вопросов, Лукашка чистосердечно, кратко и толково покаялся, как они с господином своим задолго до срока покинули Тулон и Брест для Парижа, как, благодаря паспорту маркиза Ламбаля, пробрались в Ниеншанц и как их здесь обличили и засадили в казематы.
— И барин твой все еще там, в казематах? — отрывисто спросил Петр, который ни разу не прервал кающегося, но в заметном раздражении постукивал по деревянной настилке палатки своей могучей дубинкой.
— Там же все, государь, с самой осени, девятый уж месяц.
— Поделом ему, шалопуту! Пускай еще посидит, потомится. С ним счеты у нас впереди. А с тобой, любезнейший, сейчас рассчитаемся.
И коленопреклоненный ощутил в загривке у себя богатырскую пятерню, а на спине — знаменитую дубинку. Покорясь неизбежному, он стиснул только зубы, чтобы не издать ни звука.
— Смилуйся над ним, государь! — услышал он тут юношеский голос Ягужинского. — Лев мышей не давит.
— Ты-то что, цыпленок? — буркнул Петр, однако на минутку приостановился в экзекуции, чтобы перевести дух.
— Его вина ведь с полвины, — продолжал молодой заступник, — он подневольный, крепостной человек…
— Всякий крепостной неразделен от своего барина: где один виноват, там и другой в ответе.
— С барина за крепостного отчего не взыскать, но как же крепостному отвечать за всякую барскую блажь? Дерзни-ка он противоборствовать, ослушаться своего барина — и сам ты, государь, его, я чай, не похвалил бы.
— Гм… пожалуй, что и так, — согласился Петр и выпустил из рук калмыка. — Но этого молодца и в ступе не утолчешь: хоть бы пикнул.
Лукашка почел момент удобным, чтобы подать опять голос.
— Перед тобой, великим цесарем, всякая земная тварь превратится не токмо что в карлу, а в мелкую песчинку, — сказал он. — А пикни я только, так ты, государь, по благости своей, чего доброго, прекратил бы законное истязание.
Суровые черты Петра просветлели легкою улыбкой.
— Так тебе дубинка моя против словесных репри-мантов показалася?
— Слаще меду, государь, — бойко отозвался калмык, ободренный монаршей улыбкой, — и будет, по крайности, чем похвастаться перед барином: ему отродясь еще такой чести не было.
— Авось дождется. Покамест же у меня дело с одним тобою. Как звать-то тебя, любезный?
— В святом крещении Лукой наименовали, а так-то на миру Лукашкой кличут.
— Так вот что, друг Лука, не сумеешь ли ты сказать мне: прошлого осенью под Орешком, что ныне Шлиссельбург, один здешний старик-смолокур доставил мне план Ниеншанца. Сказывал он, что велел ему передать мне его некий беглый русский…
Скошенные глазки калмыка в узких щелочках своих радостно заблистали.
— А планчик государь, тебе погодился? — в свою очередь спросил он.
— Облегчил, во всяком случае, дело: по нем вот два береговых редута уже взяты, по нем же теперь апроши подводим.
— Благодарение и хвала Создателю во Святой Троице!
И Лукашка осенил себя широким крестом на золотую икону Спасителя в углу палатки.
— Да не ты ли уж, братец, тот самый беглый русский? — догадался тут Петр.
— Не возьми во гнев, государь, но думалось мне, что и последнему рабу твоему надо блюсти отечество…
— Да где ж ты взял его, план тот?
— Сам, как умел, смастерил.
— Ну, уж и сам! Дай Бог всякому такое умение. Не врешь ты, Лука, а?
— Дерзнул ли бы я оболгать тебя, государь? Да отсохни у меня язык…
— У кого же ты обучился?
— А с погляденья, как состоял при моем господине в тулонской навигационной школе.
— Ну, хват же ты парень, разбитной и рассудливый, одолжил ты меня! — похвалил царь. — И прискорбно мне лишь, что за сей подвиг отчизнолюбия, заместо знаков благоприятства, побил еще тебя. Но те побои, так и быть, вперед тебе зачтутся, коли вдругорядь точно бы провинился. Напомни-ка мне тогда, Павлуша.
— Не премину, ваше величество.
— А теперь, Лука, чем бы мне тебя утешить?
— Да ничем, государь: твоей лаской царской я превыше всего утешен.
— Каков ведь малый! И не корыстен. Ну, да видимся с тобой не в последний раз. Но соловья баснями не кормят; Павлуша, возьми-ка молодца на буксир, прикажи на кухне досыта его накормить, напоить.
— Да я сыт, государь, — заявил калмык, — давеча только кашевары твои кашей попотчевали.
— Запрем калачом, запечатаем пряником, — сказал Павлуша Ягужинский. — Идем, братец.
— Иди, иди, — поддакнул государь. — Кстати ж, он тебя и обмундирует. А то, вишь, эта шведская форма на добром русском глаза колет.
— А как обмундировать его, ваше величество? — спросил молодой денщик.
— Да одень его барабанщиком. Покуда он ведь еще отставной козы барабанщик, так пускай носит мундир свой для почета. Но заново наряди его, слышь, с иголочки!
— Будет исполнено, ваше величество.
Допущенный в заключение к руке государевой, Лукашка с земным поклоном отретировался из палатки. Спина еще ныла, но ноги у него словно окрылились, и последовал он за Ягужинским к походному цейхгаузу, а оттуда на царскую кухню с высоко поднятою головой. О том, что говорилось «секретно» в царской палатке, он на все расспросы своих прежних собеседников у костра не счел удобным распространяться; но уже по его загадочно-счастливой улыбке, по его новенькой амуниции и по нарочитому угощению его царским «мундкохом» не трудно было всякому домекнуться, что молодчик этот у царя за что-то в особом фаворе.
Нет, нам пора!.. Открой мне жилы!
О, величайшее из благ —
Смерть! ты теперь в моих руках!..
Майков
Что не золотая трубушка вострубила,
Не серебряна сиповочка взыграла —
Что возговорит наш батюшка православный царь:
«Ах вы, гой еси, все князья и бояре!
Вы придумайте мне думушку, пригадайте,
Еще как нам Азов город взяти?»
«Петровская солдатская песня»
Вечером того же дня царь Петр отбыл на шестидесяти карбасах с семью гвардейскими ротами на взморье. Вернулся он оттуда в Шлотбург (как был прозван русский лагерь под Ниеншанцем) уже на следующее утро, 29 апреля, оставив в засаде на Васильевском (Лосином) острову (которому было теперь возвращено его прежнее русское название) три роты в ожидании появления с моря неприятельского флота. Из ниеншанцской цитадели хотя и было пущено по плывущим мимо русским несколько ядер, но без какого-либо вреда. Зато со «стрелки» Васильевского острова сделано было серьезное покушение, и именно на Меншикова, карбас которого плыл саженей двадцать впереди всего отряда и которого поэтому шведы, должно быть, приняли за самого царя.
Подробности об этом покушении Лукашка узнал непосредственно от одного из участников экспедиции — Преображенского сержанта. Как только передовой карбас поравнялся со «стрелкой», из прикрытой кустами береговой бухточки вылетели два восьмивесельных баркаса и одновременно с двух бортов причалили к лодке Меншикова, чтобы взять ее на абордаж. Но дружным залпом русских была тут же перебита половина нападающих, в том числе и сам командир их, бесноватый какой-то старичок-офицер.
— Майор де ла Гарди! — воскликнул Лукашка.
— Так называли его нам, — подтвердил сержант.
— Помяни, Господи, царя Соломона и всю премудрость его! На вышке у старичины обстояло ведь неблагополучно.
— Подлинно, что так: противу шестидесяти царских карбасов на двух лодчонках со своими ледащими чухнами идти!
— Ну, те, конечно, без командира-то тотчас пардону запросили?
— Знамое дело. А мызу майорскую государь тут же Меншикову пожаловал: вот, мол, тебе, Данилыч, и место для новых палат твоих. Поклонился тот в ножки государю и с одной ротой высадился у мызы — якобы для того, чтобы обеспечить государя с тылу.
— А то еще для чего же?
Сержант ухмыльнулся и подмигнул лукаво.
— Да почивать-то на майорских пуховиках куда, поди, мягче и теплее, чем в лодке на голых досках либо на голой земле, особливо под утро, когда этак дюже посвежеет. Он у нас, что греха таить, хоть и из простых вышел, а вдвое роскошней и привередливей самого государя.
— Так государь, стало быть, заночевал на взморье?
— Как и подобает на походе. Сколько ночей, бывало, провел он так на Ладоге да под Шлюшеном на палубе рядом с нашим братом. Подстелют ему разве дорожный коврик, да заместо изголовья себе денщика возьмет — Ягужинского Павла Иваныча али кто как раз на дежурстве.
— То есть как же так заместо изголовья?
— А так, вишь, что приляжет ему головой, значит, на спину, а тот не моги уже ворохнуться, чтобы, Боже упаси, не разбудить царя.