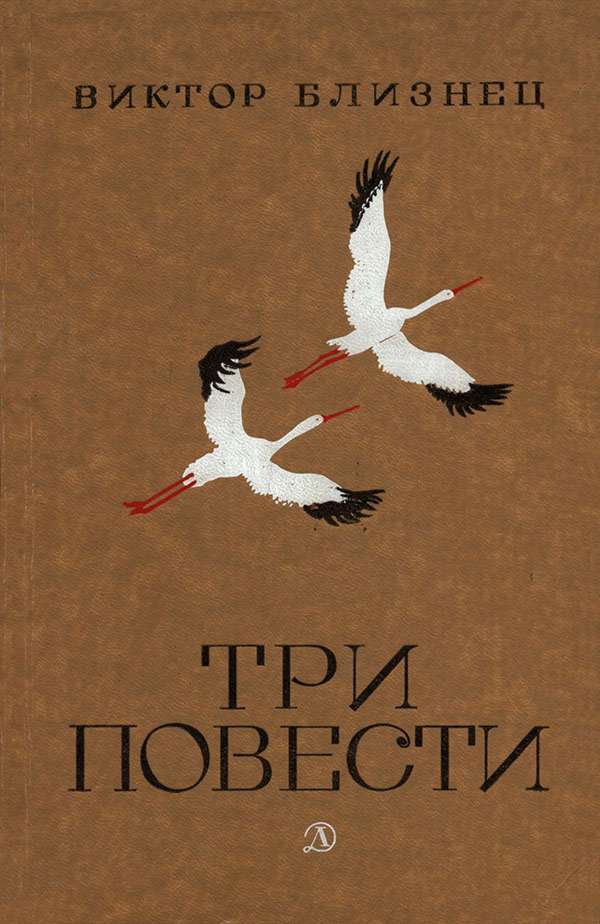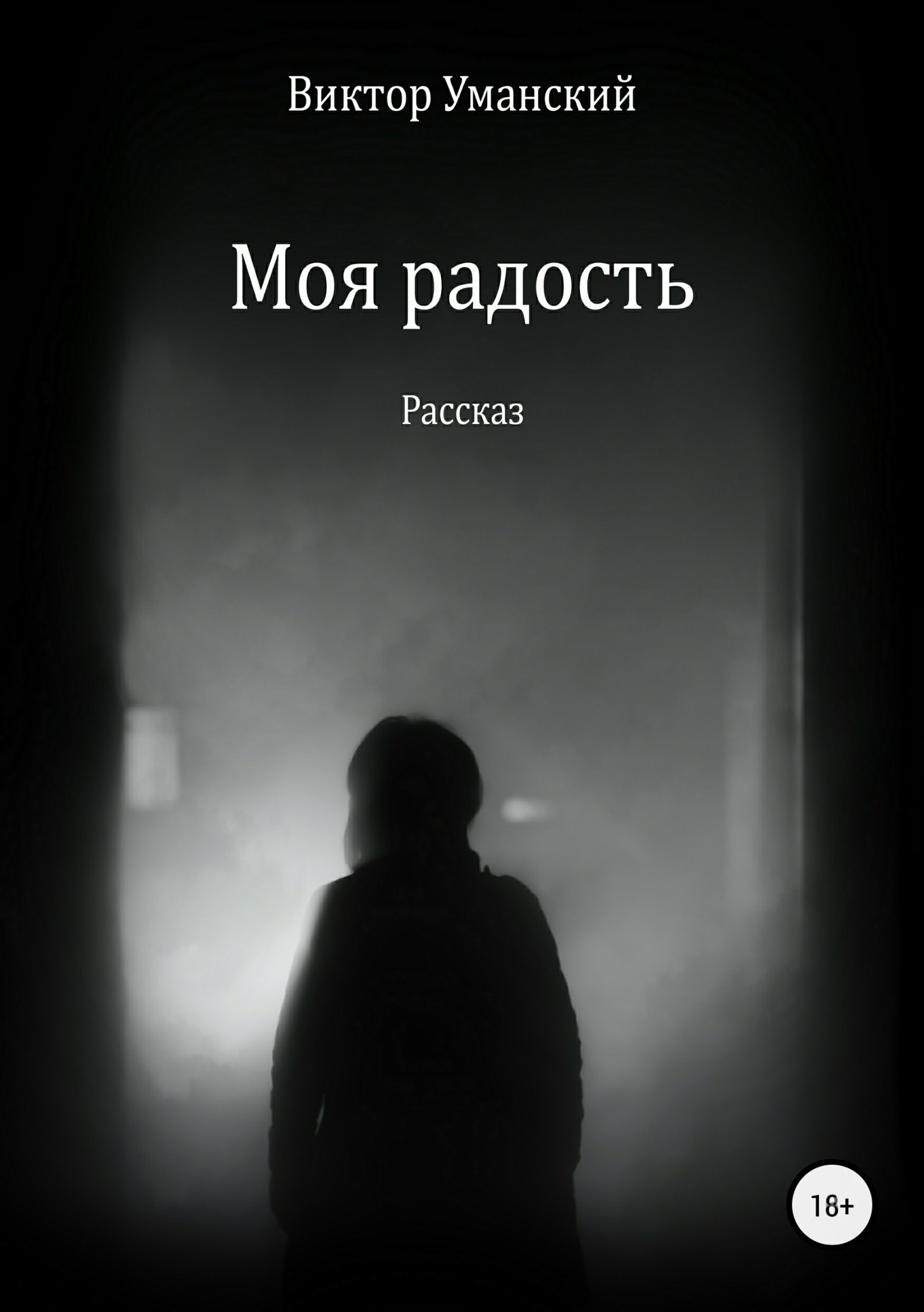И ей стало вдруг так стыдно, что она покраснела, позабыв о своем горе. Только после паузы она призналась: — А мне весточка…
— От Маруси?
Ольга не ответила. У нее судорожно задергались щеки.
— Что-то плохое? Говори!..
— Такое, что никак не разберу своим умом. Потом, мама… вечером. — И, сдерживая слезы, Ольга быстро ушла.
— Что с ней? — встрепенулись женщины.
— Сестра что-то написала… Из Донбасса…
— Может, Павел к другой ушел. Там, говорят, в городе такое творится… Мужчин мало, какая-нибудь фифочка взяла и отбила.
— Не знаете — не болтайте. Павел не из тех…
Пока женщины думали-гадали, Ольга быстро шла прямиком к селу. Письмо от Маруси она трижды прочитала на почте, а затем, возвращаясь из Сасова, вновь и вновь пробежала его, но ничего толком не могла понять. В письме ни слова о том, как Павлу и Марусе живется на шахтах, где они работают — под землей или наверху, и когда приедут погостить. Одни только вздохи, и так в каждой строке. «Ой, сестричка, ой, родненькая, — писала Маруся, — уже вторую ночь не сплю, не знаю, куда деваться, не знаю, что делать с собой…»
О чем только не передумала Ольга, стараясь понять: что же в конце концов случилось с Марусей? Может, она заболела, может, поссорилась с Павлом, а может, еще какое несчастье?
От таких мыслей разболелась голова; и без того слабая, Ольга почувствовала себя окончательно разбитой. Едва взобралась она на гору, устало побрела к кузнице. И чем ближе подходила к землянке деда Аврама Дыни, тем больше волновалась: что же она скажет старику?
Дед-коротыш как пень сидел возле своего погреба, обложившись галошами и заплатами. Еще издали заметил Ольгу и позвал:
— О, свашка-пташка! Садись, в ногах правды нет. — Дыня засуетился, быстро убрал со скамеечки инструменты: напильник, резиновые обрывки, баночки с клеем — и пригласил Ольгу сесть. — Говорят, свашка, здорово ты хворала. И меня скрутило, как старую ботву. Не мог проведать тебя, сам на четвереньках ползал за водой, чтоб ему пусто… Э-э, а чего это глаза у тебя на мокром месте?
Ольга улыбнулась, пытаясь отделаться шуткой:
— Разве долго девушкам прослезиться? И когда горе — плачем, и когда радость — плачем. Такая уж наша натура…
— А какое это горе или радость, свашка?
— Било, да не убило совсем; ожила немного — вот и радость. Ну хватит обо мне. Лучше расскажите, дедушка, как ваше здоровье?.. — Ольга его спросила, хотя сама видела, что дела у деда неважные: ноги стали толстые, как бревна, руки сильно отекли.
Еще больше округлился старик, точно мешок, наполненный водой. Он неуклюже сидел на земле, тяжело дышал; рыжая льняная сорочка была потная, хоть выжимай; большая лысая голова, похожая на белый гриб, влажно блестела. Но Дыня был Дыня — неугомонный говорун-шутник, и пока теплилась в нем жизнь, он не унывал. А тем более сейчас, когда его посетила свашка — в белом платочке, белых туфельках, зубки ровненькие, брови тоненькие, глаза как две бусины.
— Эх! — сладко сощурился Дыня. — Подкатит осень на золотой карете, на золотой карете встанет у порога: вот вам, пахари, свежие пироги; вам, молодухи, пышный хлеб; вам жнецы, сметана и блины. Такую свадьбу тебе сыграем, Ольга, что все село ходуном пойдет. Жених-то есть? — Дыня лукаво подмигнул. — Случайно, не Яшка Деркач? Гвардейский парень!
Худенькое личико Ольги зарумянилось, в глазах вспыхнули огоньки. А Дыня подливал и подливал масла в огонь:
— А может, и посчастливится на старости лет деду Авраму — прилетят осенью Павел с Марусей: сразу две свадьбы, одним махом. Вот там на выгоне накроем столы, все село созовем да еще и музыкантов пригласим. Ох и повеселится моя душа!
По ту сторону, гора,
И у нас стоит гора.
И всходила между ними
Светло-алая заря.
Дыня взмахнул обтрепанными рукавами, как будто на самом деле собрался пуститься в пляс. И если бы его слушались ноги, он бы сплясал гопака прямо тут, среди двора. Да ноги были словно свинцом налиты, и Дыня сидел среди ветошного хлама, как бескрылая птица, утешал себя выдумками и, напевая в такт песне, хлопал по скамеечке разбухшими руками.
— Так оно и будет — не правда ли, свашка?
— Так или не так, а как-то будет.
— Э, нет! Именно так, как Дыня говорит. — Дед нахмурил седые брови и вдруг серьезно спросил: — А что от Маруси слышно?
Ольга вздрогнула — не ожидала, что так круто повернется разговор. Огнем жгло ее письмо, которое она спрятала за пазуху.
— От Маруси? А разве что?.. Не знаю, — съежилась Ольга.
— По тебе видно… Смотри ничего от меня не таи.
— Ей-богу, ничего.
— Ну хорошо. Раз ничего, так ничего.
Дыня переложил с одного места на другое старые распоротые покрышки. Вздохнул:
— Засиделся я, дочка, возле своих галош, чтоб им пусто. Засиделся, вот и встать не могу. Может, проводишь старика к Анисье? Злая она, как дым с прошлогодней полыни, но у нее люди собираются: послушаю, что там говорят.
— Какие люди?
— Пойдем, посмотришь… Ну, подымай, дочь, гнилое бревно.
И смешно и грустно было смотреть, как Ольга поднимала тяжелого Дыню. Словно муравей, вцепилась в него руками, подала обмякшее тело на себя. Старик с трудом встал на ноги. Зашатался, долго расправлял спину и так, не расправившись, медленно заковылял. Шел, как по камушкам, осторожно передвигая толстые, отекшие ноги. Дорогой насмехался над собой:
— Докатился Дыня… до детства. На четвереньках остается ползать. Недаром говорится: стар что мал — няньку надо. А был парень, да еще какой парень!.. Не веришь? Девки, как пчелы, роем летали за мной…
Так за шутками и не заметили, как дошли до Анисьи. Ни разу Ольга не заходила к Деркачам. И сейчас ей страшно и как-то неудобно было наведаться туда, где живет Яшка. Почему-то вспомнились ей слова, которые сказал он в степи: «Оля… Так ты… выходи вечерком». «Он такой смешной, этот рыжебровый Яшка, — думала Ольга, вспоминая, как он провожал ее вежливо: сам шел по колючкам, а ей уступал дорожку. — А если он дома сейчас?» — испугалась Ольга.
— Вот и проводила вас, — сказала она деду Авраму. — Теперь уже сами…
— Нет, нет! — запротестовал дед. — Хочешь осрамить кавалера? Проводи лучше в хату, а то еще упаду на пороге.
В землянку вела узенькая щель со ступеньками. По этой канаве не только вдвоем, но и одному пройти было тесно. Ольга и так и сяк изворачивалась, проталкивая Дыню к дверям.
— Эге, гости ко мне! — встретила их