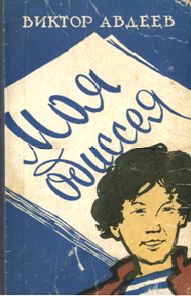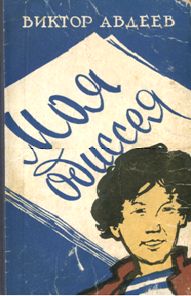Два раза еще Фурманов расхваливал мой рассказ и два раза опять заставлял исправлять в нем "несколько слов". В глазах у меня уже начинало рябить от жирных росчерков его сине-красного карандаша, под которым пропадали мои строчки: в живых оставались только заглавие да моя фамилия.
Прошло больше недели, как я занялся литературным творчеством, а «доработкам» и конца не предвиделось. Я начал избегать Фурманова, как и в те дни, когда он заставлял меня читать фолиант о художниках средневековья. Если талант – это умение вычеркивать, то зачем он мне сдался? Лучше писать бесталанные рассказы, да только бы их печатали. Когда воспитатель заговаривал со мной о литературе, о прочитанных книгах, я сопел, отворачивался. Тогда он вдруг объявил, что рукопись обработана достаточно и находится в портфеле редакции "Друг детей", сейчас ее гам читают.
Это известие взбудоражило изолятор, пожалуй, еще больше, чем мой экзамен в академии.
– О, корешок, теперь ты далеко шагнул, – сказал мне Колдыба Хе-хе-хе. – Сочинить роман – это же не диктант написать. Там учитель сверяет тебя по мужскому и женскому роду и ставит кол. А тут ты можешь написать «козел» через фиту: наборщик будет составлять книгу и все выправит. Писатели, брат, они сами педагогиков под каблук. Понял? Стервец буду! Сочинит книгу, а педагогик ей в классе начинает сопляков мучить. В старое время, до революции, писатель считался почти как царь – думаешь, брешу? Вот народ дождется, когда он сыграет в ящик, памятник ему строит. Это, брат, даже повыше, чем быть художником.
Литература начинала нравиться мне все больше: может, теперь не надо поступать и в семилетку? Я с нетерпением ждал ответа из журнала, весь истомился. Дядя Шура несколько дней не появлялся в изоляторе; пришел он оживленный, в неизменной бекеше, смушковой шапке, и прямо с порога объявил, что рассказ в журнале понравился. От смущения я не знал, что делать, и стал закуривать. Однако, наученный горьким опытом, молчал, ожидая, когда воспитатель заговорит о печати и гонораре.
– …Понравился, – продолжал дядя Шура, снимая перчатки. – Только, понимаешь ли, Виктор… рассказ не подходит "Другу детей" по теме. Он не злободневен. Советской общественности уже не интересно читать о том, как беспризорники зайцем раскатывают на экспрессах, воруют, нюхают кокаин. Об этом много было сказано в свое время и… не хуже твоего. Теперь читатель требует книг о том, как бывшие воры перековываются в честных людей. Вот, например, в семи километрах от Харькова, в Куряже, есть трудовая колония. Мы тебя можем перевести туда, и редакция совершенно уверена, что со временем – ну, так через годик – ты сумеешь дать нам интересный очерк о ней. Как ты на это посмотришь?
Да никак. Опять сочинять? Ну нет – дураков теперь мало! Уж если за две недели моя тема вдруг потеряла злободневность, то что же случится за тот год, который я проживу в Куряжской колонии? Может, к тому времени советская общественность заинтересуется африканскими львами, так мне их тоже изучать?
Мы переглянулись с Колдыбой Хе-хе-хе, и он лаконично подытожил:
– Все интеллигенты из редакций паразиты. Разве они допустят хоть одного золоторотца пролезть в честные фраера?
– Допускали, – улыбнулся дядя Шура.
– Кого?
– Всех, кто добивался этого упорным трудом. Максима Горького, Свирского, Шаляпина.
Опять Максим Горький! Кто же это наконец такой? Но чтобы не показаться невежественным, я воздержался от замечаний.
– Это случайные случаи, – сказал Колдыба Хе-хе-хе, и по его глазам я с удивлением увидел, что он знал, кто такой Максим Горький.
– Фактура, – авторитетно подтвердил и Пашка Резников – Кого назвали, дядя Шура: Горький, Шаляпин, Свирский! Они все самородки.
Уж Пашка-то знает: грамотей.
Я решил расспросить его на досуге об этих «самородках», да все как-то забывал. Потом стало не до этого: к нам в ночлежку пришли представители ячейки Украинского Червонного Креста и "Друга детей" при Управлении южных железных дорог. Это были двое весьма солидных мужчин и дама в шляпе и фетровых ботах; оказывается, их организация решила взять на воспитание беспризорника. В канцелярии им порекомендовали меня: рисует, любит книжки, работает младшим санкомом в изоляторе, дерется редко – добродетелей к тому времени у меня накопилась куча. Согласие на этот раз я дал гораздо охотнее, чем в Новочеркасском интернате.
При прощании с корешами мы обнялись.
– Все санкомовцы разлетаются, – сказал Колдыба Хе-хе-хе, криво улыбаясь, и легонько ткнул меня култышкой в грудь, словно выпроваживал за порог изолятора. – Один я тут остался… командовать симулянтами, "страдающими нутром". Ну, да заведующий обещал, что скоро определит меня вахтером на завод… жуликов ловить. Еще, Витек, встретимся с тобой фраерами.
– Пашка ж остается, – сказал я. – Забыл? Колдыба Хе-хе-хе насмешливо прищурил здоровый глаз, сплюнул:
– Похоже, и он нарезает с ночлежки. Признался: вчера написал маханше и отчиму, чтоб простили.
Я удивленно глянул на Резникова. Правда? Он чуть-чуть покраснел и промолчал.
Очень тепло расстался я с дядей Шурой. Вручая мне подарок – "Детство Темы" Гарина, он посоветовал:
– Больше читай классиков, Виктор. Такими русскими великанами, как Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов, восхищается весь земной шар. Выбрось совсем из головы дешевую американскую дрянь про сыщиков и бандитов: это жвачка для обывателей. Заходи в гости, квартиру мою ты знаешь. Может, опять надумаешь писать рассказы – буду рад помочь.
Опекуны поселили меня у председателя ячейки "Друг детей" Мельничука на Проезжей улице в конце
Холодной горы. Первые дни жизни я всецело был занят новыми ощущениями; спал на самой настоящей простыне, каждый день умывался с мылом, ничто не ползало по моей рубахе, хоть по привычке я все-таки чесался.
Учиться я поступил в железнодорожную школу на Рудаковке, недалеко от вокзала. Невольно мне вспомнился Новочеркасск, бывшая Петровская гимназия, старый товарищ Володька Сосна; лишь вот теперь, почти шесть лет спустя, наконец докарабкался до пятого класса! И сейчас мне приходилось много, упорно корпеть над уроками. Зато каждый день я опять мог наедаться досыта, щеки мои налились румянцем. Товарищи давно стали для меня ближе родни, поэтому в школе я вскоре обзавелся множеством новых друзей. Постепенно начал забывать о ночлежке, беспризорничестве.
Год миновал незаметно. В зимние каникулы одноклассники стали звать меня на каток. Я охотно бы пошел, но где взять коньки? И тут опять вспомнил о дяде Шуре: поканючить у него? О писательстве я давно забыл, но вдруг «прорежет»? Ночь прошла в горячей спешке; к утру я закончил новый рассказ о скитаниях на воле и отправился к Фурманову. Жил Фурманов на Конторской, недалеко от мутноводной Лопани, сжатой гранитными берегами. Я вырос, был в начищенных хромовых сапогах, в бобриковом коричневом реглане. Свои каштановые спутанные кудри причесал на пробор – совсем взрослый городской парень.
Дядя Шура обрадовался мне. Комнату он занимал небольшую, со скромной мебелью; вдоль стены от пола к потолку тянулись полки, заставленные книгами в старых переплетах, на столе темно желтел человеческий череп. Бывший воспитатель предложил мне стул, проговорил весело, с легким укором:
– Я уж потерял надежду тебя увидеть.
– Да все как-то некогда, – неловко ответил я. Свою беспризорную жизнь я теперь старался забыть. – Ну как у вас в ночлежке? Пашка Резников не бросил строчить стишки?
– Он давно у матери в Донбассе на станции Переездной. Да, ведь это уже без тебя случилось? Ему выслали из дома деньги на билет, и он уехал. Между прочим, одно стихотворение я помог Павлу напечатать в "Друге детей".
Вон как! Поэтом стал? Изменился небось? Признает ли, если встретимся? Значит, родичи его простили?
– А Колдыба Хе-хе-хе как? По-прежнему заворачивает изолятором?
Дядя Шура слегка нахмурился.
– Скверно он кончил. Помнишь, в прошлом году к нам на Малую Панасовку временно поселили несколько уличных девчонок? Так вот Милорадов, или, как вы его называли, Колдыба, спутался с одной из них, украл у кассира портфель с деньгами и бежал на «волю» вместе с этой… Ирой или Клавой, не помню. Точных подробностей не знаю: ведь уже в ночлежке не работаю, занимаюсь медициной.
Судьба кореша сильно огорчила меня. Чтобы пере-менить разговор, дядя Шура спросил, как живу я.
Я выставил кверху большой палец правой руки:
– На большой с присыпкой.
– Прочитал "Детство Темы"?
Я замялся. Ну что интересного в том, как жил генеральский сынок? Начхать мне на него с телеграфного столба! Вот если бы это был какой-нибудь вождь апахов Голубая Лиса или король сыщиков Нат Пинкертон – такую книгу я прочитал бы с удовольствием. (Вообще, на мой взгляд, русские писатели сочиняли очень незанимательно.) Но я помнил, что Фурманов не признает «американскую» литературу, и не стал распространяться о своих вкусах.