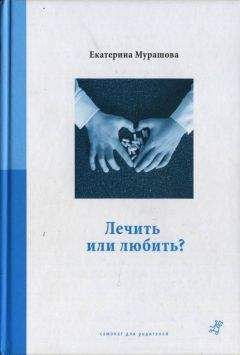— Боюсь. Очень. Но не их, а самого факта их появления, факта, мало кому известного и совсем никому не понятного…
— Даже тебе? — Теперь Галя смотрела Андрею прямо в глаза, и узкая белая ладонь ее лежала у него на рукаве.
— Даже мне, — подтвердил Воронцов и сделал такое движение, будто хотел накрыть Галины пальцы свободной ладонью. Но вместо этого убрал руку.
— Слушай, Андрей, — продолжала Галя. — А я вот разговаривала с умными людьми… Они говорят, что это попытка иных миров, более тонких энергий вступить с нами в контакт. Может, предостеречь нас от чего-то. Может, научить чему-то… Хочешь, я тебя с теми людьми сведу? Они действительно образованные, не то что мы. И говорят интересно. Я о многом так, слышала вскользь, а получается — все так связано, как одна большая книга… Может, тебе тоже полезно будет? Вот, например, рериховская «Живая этика», «Агни-йога»… Знаешь?
— Слушай, Галя, — с заметным раздражением перебил Андрей. — Будь мы в Гималаях, среди вечных снегов, или в монастыре, или еще где-нибудь в том же духе, я, ей-богу, охотно потолковал бы с твоими умными людьми о тонких энергиях, об «Агни-йоге»… Но мы, знаешь ли, здесь и сейчас. И исходить надо именно из этого. Во всяком случае, мне. Потому что я за них отвечаю…
— Отвечаешь — перед кем?
— Перед собой хотя бы. Перед своей совестью. Тебе кажется, что этого мало? Что это устарело?!
— Нет, нет, Андрей! Не сердись, пожалуйста! — попросила Галя. — Я, может, дура, что-нибудь не так сказала. Не сердись… — Она осторожно погладила Воронцова по плечу, и тот сразу обмяк, замигал часто-часто, будто ему в глаз попала соринка.
— Ничего, Галя, — глухо сказал он. — Ты прости меня. Я все время на взводе, сама понимаешь. Иногда нервы не выдерживают… Это все ерунда… Прости…
Слушая весь этот вздор, Сенька удивлялся. Воронцов — голова, каких мало, да и блондинка вроде вовсе не дура набитая. Отчего же говорят они между собой как два придурка?
Ответа на этот вопрос Сенька так и не нашел, но, подслушав два-три разговора, уверился окончательно: врет Глашка, нет у Воронцова к Гале никакой безнадежной любви. Потому что ни одного слова про эту любовь сказано не было.
* * *
Все когда-то бывает в первый раз. С каждым человеком по-своему. Разные вещи люди про себя помнят. Кто-то помнит, как первый раз в школу пошел, кто-то — как в первый раз подрался по-настоящему, кто-то — как друга в первый раз встретил. Многое люди сами про себя не помнят. Ну, например, какое первое слово сказал или как на своих ногах пошел. Это родители помнят.
Сенька однажды тетрадку нашел старую. Листы уже с углов пожелтели, и обложек теперь таких не делают. Записи в тетрадке были все чернильные, и потому еще Сенька сразу признал — мать. Она ручек шариковых и до сего дня не жалует. Как учили ее в школе чернилами писать, так и пишет. Даже счета на квартплату или там записку отчиму, чего поесть. Специально для нее чернила в шкафчике стоят. А ручка вечно теряется. Сенька сколько раз свою, с обгрызенным кончиком, предлагал. Мать не берет, говорит — не умею. И правда, как возьмется шариком писать, так грязь на листке, будто пальцем размазано. Отчего так?
А в тетрадке еще про Коляна написано. Крупно так, буквы круглые, старательные. «Сегодня у Колюшки прорезался первый зуб». И дата. Чудно читать — Колюшка! «Сегодня Колюшка первый раз сам прошел от стола к дивану и ни разу не сел. А вчера увидел Нининого Тузика и сказал: „Ва-ва!“» И еще много всякого. Чудно! Трудно представить, что Колян был таким. Интересно, видал ли он ту тетрадку?
И про Сеньку есть. Только мало и коротко. Потому что отец тогда уже… Да чего говорить!
Последняя запись совсем короткая: «Сенечка увидел в небе луну и сказал: „Дай!“» И на последнем слове капля. Расплывшаяся, голубая. Может, водой капнуло, а может, еще чем…
Сенька помнит, как он в первый раз думал. Странно это, однако так. Тогда же и барабашкой в первый раз стал.
Когда Колян попался, мать два дня голосила, как по мертвому. Уж и отчим ее совестил, и соседи уговаривали — ничего не помогло. Сенька домой старался приходить пореже, все во дворе околачивался. Там все, естественно, уже знали, и было Сеньке со стороны дворовых пацанов полное уважение и сочувствие. Колян с товарищами уже числились в героях и гадали только, что им в этом кооперативном складе понадобилось. Сигареты, что ли? Жвачки? Кассеты, может?
Сенька, конечно, молчал, однако знал: из-за Машки-красотки все. Ей краски всякие для морды да колготки ажурные нужны. Колян про то знал. Для нее и полез.
Сенька устал от всего и во дворе, и дома и спрятался между гаражей. Присел на мокрый почерневший ящик, набитый грубой курчавой стружкой, и стал думать. Первый раз в жизни. До этого все как-то не о чем было.
Коляна он всегда уважал. Сколько себя помнил. Брат всегда — надежда и опора. Никогда Сеньку не подведет, что непонятно — разъяснит, обидит кто — из-под земли отроет. Теперь, по всему выходит, пришел Сеньке черед самому за себя стоять. Но это ерунда. Сенька не трус, не слабак, не придурок — выдюжит.
Но Колян? По-дворовому выходит, украл — вроде и правильно. Плохо, что попался. По-материному — хуже смерти. Кто прав? Сенька прислушался к себе. Тишина. Он даже испугался: что ж, выходит, он не знает, хорошо воровать или плохо? Конечно, плохо!
А Машкина краска — месячная отчимова зарплата. Тогда как? Для кого ж это? Не для Коляна, не для Машки, не для отчима с матерью. Для кого ж? Чего ж эти люди такое делают?
Сенька не хочет воровать. Он хочет жить честно. Но как? Что будет теперь с Коляном, с матерью? Что делать ему самому, к чему готовить себя в этой жизни?
Так думал Сенька в первый раз в жизни и ни до чего не мог додуматься. В голове с противным скрипом проворачивались какие-то шестеренки, перед глазами плыла грязная склизкая стена гаража.
Думать — тоже работа. Вскоре Сенька устал, проголодался, пошел домой. Дома полы не метены, обеда нет, мать в грязном халате ничком на диване лежит.
Сенька вздохнул, разбил на сковородку яйцо, налил простоквашу, съел с хлебом. Подумал вскользь: отчим со смены придет, ему-то еда толковая нужна! Разозлился на мать, вернулся в комнату, сказал отчужденно: «Будет реветь-то! Что толку?» — «Моя, моя вина во всем! — снова завелась мать. — Не уберегла, не устерегла, не углядела!..» Сенька не выдержал, усмехнулся — представил, как мать стережет Коляна. Потом вдруг взъярился окончательно. «Хватит!» — крикнул он, чувствуя, как словно горячий нарыв вспухает подо лбом. Вспомнил отца, испугался, попробовал переломить себя. И тут же зазвенели, посыпалась на пол осколки стекла… Мать как ошпаренная подскочила на диване, сунулась в окно: «Ох, ироды! Вот паразиты-то! Мало нам!..»
Сенька, окаменев, стоял у двери, безучастно смотрел, как мать собирает осколки в совок, несет в ведро, возит тряпкой по подоконнику. «Помог бы! — разом оттаяв, шумнула она на сына. — Что стоишь как пень? Небось твои же приятели и удружили!»
Потом мать долго искала по комнате камень, которым разбили стекло. Не нашла. Сенька отчего-то знал уже, что никакого камня не было, но гнал это знание прочь, ползал на карачках, искал вместе с матерью.
* * *
После истории с дверью дела у Сеньки пошли на лад. Он научился по команде Воронцова опрокидывать выставленные в ряд кегли, сначала все вместе, потом выборочно. Сдвигал с места, переворачивал на ребро и даже ставил на угол тяжелый деревянный куб…
И только поджечь ничего не мог. Стоило только подумать об этом, как мозг заливало леденящим ужасом, в котором тонуло все, кроме знакомой уже кошмарной картины: Глашка в пылающей ночной рубашке, оранжевые языки, лижущие острое плечо.
Сенька долго не решался рассказать об этом Андрею, но тот, видно, почуял что-то, сам завел разговор. Выслушав, сказал спокойно:
— Я так и понял. Это хорошо. Страх и должен быть страхом. Иначе люди калечили бы друг друга на каждом шагу… Ну, а тебе, сам понимаешь, надо быть вдвойне осторожным.
Сенька понимал. И потому читал, и слушал, и занимался как опсихелый. И чувствовал: что-то сгущается, назревает в его судьбе. И в судьбе остальных обитателей клиники тоже. Спрашивал у Глашки: «Ты же знаешь, должна знать — скажи!» Она, как всегда, отругивалась, но с каждым днем становилась все тише, печальней и зеленее. Иногда Сеньке страшно хотелось схватить ее за узкие плечи и потрясти что было сил, крикнуть: «Проснись, очнись, Глашка!» Но знал, что это не поможет, и только бессильно скрипел зубами, встречая равнодушный взгляд прозрачных желто-зеленых глаз…
Однажды не выдержал, сказал: «Знаешь, Глашка, ты вся такая зеленая, ну, как цветок там или куст… Иногда кажется, что ты скоро корни пустишь, листочки, говорить перестанешь…» — «Да? — отстранение улыбнулась Глашка и задумалась. Потом сказала мечтательно: — А хорошо бы… Я бы рябиной хотела быть. Чтоб над речкой. Ты стоишь, стоишь, солнце светит, дождик идет, птички по веткам скачут, а внизу вода бежит, бежит, бежит…»