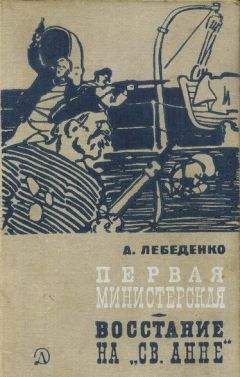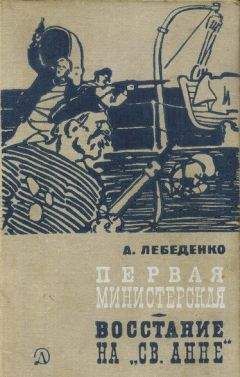Миша отрывает лицо от увлажненных потом и слезами рукавов. Мертвые лунные пятна на полу, белые раскинутые руки сестры, черные струи волос и черные струи… крови…
Брошенная бандитом коробка спичек… Машинально пальцы сжали хрупкий коробок…
Больше нельзя оставаться здесь, в этом доме, где мертвая луна, где бандиты сломали дверь шкафа, опрокинули стол… Зуб не попадает на зуб. Мише кажется — он видел не бандита. Хрупкое горло отца держит корявая рука городового Гончаренки. Разве это был Гончаренко? Исправничьи широкие плечи… бандитский хрип. Здесь нет больше никакой надежды, здесь черные пряди волос плавают в черной крови, и луна на полу — холодным светом, чужим и нездешним…
Дверь настежь… Миша бежит по переулку. У дома Шнеерсонов какие-то тени. Дом наверху объят пламенем. Большой дымный факел. К нему спешат снизу и сверху люди… Не то на помощь, не то на последний вороний пир.
Но теперь и у дома Шнеерсонов, и у дома Гайсинских тени мелькают при свете крутящихся огневых вихрей. Языки пожара поднялись выше крыш, выше беленых труб…
В тени от ограды Святой Троицы Миша взбежал наверх, останавливаясь только для того, чтобы перевести дыхание. Не взглянув больше ни разу назад, он оставлял позади один за другим кварталы Верхнего города.
Проплыла в ночном голубоватом океане невысокая каланча с поднятым над городом одиноким огоньком. Острый шпиль гостиницы «Петербург». Вот синагога с круглыми окнами в красном кирпиче. Сенная площадь, пустые коновязи в ряд, и у телег на земле, на пиджаках и свитках, — приезжие крестьяне. Вот военная церковь над маленьким озером и, наконец, дорога в поле, по которой Миша столько раз несся на паре черных, шелестящих серебром Козявкиных лошадей.
Отрадное — это как Лысая гора, на которой справляют шабаш киевские ведьмы и черти в генеральских мундирах, в исправничьих кителях, в блистающих шелком фраках, с белыми щитами манишек. Там замышляют гибель, оттуда идут в ночные переулки бандиты с железными палками, для того чтобы жечь, грабить и насиловать…
Миша сжимает в руках коробку спичек — его единственное оружие.
Бандит поджег дом «варшавского портного» Гайсинского — Миша сожжет Отрадное!
Он знает, где лежит сухое сено. Если подложить под высохшие доски веранды охапку сена и бросить туда зажженную коробку спичек, никто не спасет проклятого дома, где пьют за успехи бандитских налетов.
Миша отчетливо представлял себе каждую щель подгнившей тяжелой веранды, растрескавшиеся деревянные колонны, по которым побежит огонь, зеленую крышу, абрикос — дуплистое дерево, посаженное еще дедом Козявки, зеркальные окна, белую дверь, стекла которой треснут и рассыплются от жара выпущенного на волю пламени…
На придорожной траве серебрились капли росы. Чертополох лез из канавы на дорогу. Поле уходило вдаль и куда-то вниз, а Миша бежал, не чувствуя тяжести в ногах, словно сделал он несколько шагов, а не много километров.
И вот уже поворот, и вот избушка сторожа, и липовая аллея, которая ведет в усадьбу.
Большая красивая луна встает над деревьями… Но ведь луна только что светила мертвым светом в окно их маленького дома! Она плыла над Днепром. Когда же она успела обойти небо и спуститься к горизонту? Миша остановился. Нет, вот она, луна, — она высоко, почти полным кругом, как разрезанное яблоко. Нет, это не луна поливает усадьбу потоками кровавого закатного цвета. Это тоже как зарево пожара!
Миша зашагал в поле, и старые липы отступили и открыли перед ним горизонт.
Нет сомнения, это горит Отрадное! Значит, кто-то раньше Миши подложил сено под высохшие доски веранды и метнул туда пламя.
Большой алый язык вырвался и поднялся над домом. Метла черного дыма прошла по небу. За нею другая, третья. Лепестками живого оранжевого цветка поднялись языки пламени, и в огромной чаше его утонул силуэт помещичьего дома.
Миша опять пошел к дороге.
Теперь колени его налились свинцом. Ботинки стали пудовыми.
От Отрадного неслись крики — смятый расстоянием гомон толпы.
По дороге раздался топот. Карьером несся к усадьбе драгунский патруль. Лошадь передового всадника шарахнулась в сторону, поравнялась с Мишей.
— Черт! — выругался всадник и хлестнул коня нагайкой.
— Стой! — поднял он руку.
Патруль стал, кавалеристы окружили мальчика.
— Ты откуда? — злобно спросил вахмистр. Миша молчал.
— Ты что, хозяйский, что ли?
Несколько всадников спешились и стали в упор разглядывать гимназиста.
— Какой хозяйский? Жидок! — сказал один из них и презрительно сплюнул.
— Да ты что молчишь все? Языка лишился? — закричал вахмистр.
— Гляди, а у его в руках спички! Може, он и поджогу устроил?
— Гм, — сообразил вахмистр. — Ну-ка, катай с нами, паренек. Там разберемся!
Миша молча, покорно пошел к Отрадному.
Медленно, как журавли в высоком небе, тянутся дни занятий, и легко, как ласточки, пролетают дни каникул. Обласканные солнцем, пахнущие ягодами и смолистой хвоей — были и нет их, и в молодой забывчивой памяти ничего не осталось, только солнце, стоящее над колосистым полем, только днепровские волны да колыхание цветущих садов.
Еще до акта гимназисты группами слонялись по вновь отремонтированным коридорам, говорили свободнее, чем обычно, читали вслух газеты и даже задавали педагогам вопросы из области политики.
В обширной гимназической уборной стояло небывало густое облако папиросного дыма, и сторожу Василию не дали даже закрыть дверь в шинельную. Гимназия по-своему учла дух вольности и протеста, реявший над всей страной.
Директор начал речь сдержанно. Говорил, что страна переживает тяжелое время, но что гимназистам нужно учиться. Намекнул, что именно теперь родине особенно нужны полезные, культурные граждане, и потому молодежь обязана относиться к занятиям еще более внимательно, чем раньше.
— Вот лисица! Кто бы сказал? — говорили в коридоре. — Откуда такие дипломатические способности? Речь на всякий вкус подходит — и нашим и вашим.
— А кто это «ваши»?
— А вы за кого, товарищ?
Слово «товарищ» заменило прежнее церемонное слово «коллега».
Впрочем, все знали, что в гимназии готова разгореться война.
— Ты слышал, — спросил Ливанов, — какая стычка была на днях между семиклассниками и восьмиклассниками?
— Слышал и удивляюсь, как это так случилось, что в одном классе все черносотенцы, а в другом все либералы?
— Ничего странного нет. В шестом классе кто коноводил? Карпов. Хулиган, человек некультурный. Метит в юнкерское и настроен так же, как наш Матвеев. Затем сын Кулеша. Кем же ему быть, как не черносотенцем? Яблочко от яблоньки!.. Затем Белькин, сын капитана, военщина. Затем попович Архангельский. Чем не букет? А остальные плетутся за коноводами. А в седьмом классе — там грабарских сынков ни одного, все больше интеллигенции. Затем Вишневский — это ведь голова! Он давно политикой занимается. Его даже из гимназии хотели выгнать. Стихно и Козловский — из крестьян — это друзья-товарищи. Соломон Коган, их три брата; Соломон — младший, а старшие все с головой в политике. Так оно и складывается.
Десятого августа без четверти девять гимназисты парами, класс за классом, двинулись в нижний зал на общую молитву.
Директор опять поздравил всех с началом занятий и сразу повел речь о дисциплине. Заявил, что за лето гимназисты распустились, и в конце уже грозным голосом потребовал, чтобы летние вольности были немедленно забыты. Наступает учебный год, надо заниматься!
— Нарушения дисциплины я не по-тер-плю! — раздельно и внушительно закончил он свое слово.
Гимназисты пропели молитву. Новоиспеченные шестиклассники прислушивались к голосам товарищей. Недавние альты старались брать теноровые ноты, безголосые неуклюже басили, приставив для звучности руку ко рту, и посматривали на соседей вопросительно: дескать, не заметил ли, какую я ноту отхватил?!
Священник, отец Давид Ливанов, в фиолетовой рясе, под которой обрисовывалось короткое круглое тело — две тыквы одинаковых размеров, одна над другой, — размашисто перекрестился и, скрипя высокими сапогами, поднялся на возвышение.
— Ей-богу, речу отхватит папахен, — сказал Ливанов-младший. — Нож острый в сердце!
— О чем будет, Костя? — потянулись к нему соседи.
— Я не сторож брату моему, — отшутился с горечью Ливанов-сын.
— Дети! — начал священник и простер по-бабьи пухлые, короткопалые руки над залом. — Дети мои! — повторил он.
— Сколько же у тебя детей? — спросил кто-то сзади полушепотом.
Смешки редкими всплесками пошли по залу.
— В годину трудную начинаем нашу учебу. Наша возлюбленная родина, наша великая святая Русь колеблется под ударами врагов на полях сражений и, что самое тяжкое, колеблема внутри, на улицах и на стогнах [9] древних градов наших. Верные сыны России, благословляемые церковью Христовой и водимые великим государем нашим, ведут битву с врагами внешними и внутренними. Студенты же и социалисты за деньги, полученные от масонов, англичан и японцев, стараются разрушить силу родины нашей. Враги наши действуют по наущению диавола…