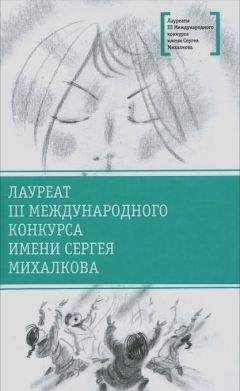Возле огня и правда сидел сказитель, тихонько перебирая струны нуна-арфы, готовился звать духов. Это был мужчина средних лет, охотник, судя по знакам на шапке. Седина испещряла темные волосы, выбивавшиеся из-под нее, но мужчина еще выглядел сильным, и глаза его оставались юными. К нему сразу симпатией наполнилось мое сердце. Его глаза, лицо и голос — все приковало мой потрясенный ум.
А когда он запел — я утонула в долгом, полном событий сказе об охотнике, не вернувшемся домой. Три года жил он пленником у Девы-Озерницы, младшей дочери далекого, сурового Перевала. Полюбив, не пускала она его с гор, и только молодая жена, обратившись кукушкой, сумела вызволить мужа… Слова текли, переплетаясь со звуками арфы, история баюкала, я сидела, не помня себя, и не чуяла, как слезы текут у меня по щекам.
Но под звуки сказа беда пробивалась.
Говорить вокруг стали люди, шептаться, на меня указывали:
— Вот вождь их… Те, как устроились. Всегда говорили про них такое. Только раньше как-то втихаря…
Как пчелиное гудение были эти слова. Я не слышала, только чувствовала — глядят на меня недобро, обернусь — отводят глаза. Как зуд, раздражать это меня стало.
— Понять их можно… Девки молодые, всем же хочется… Раз уж и озерных дев на наших охотников тянет, от простых-то чего и ждать.
И приглушенно хихикали. Я опять обернусь — отворачиваются, улыбки в рукава, но глазами лукавыми сверлят. Меня это выводило, но сказ далее шел, и я не хотела ни слова терять.
— Всю зиму на сборах просидели.
— Перед постом отъедались…
— Ладно бы сидели, как все. Но эта-то, эта! И смелости откуда набралась столько?
— У нее мать — чужачка. И верно говорят: у них кровь блудливая.
Тут меня обожгло, как плеткой. Вмиг обернулась к ним, не успели отвернуться девы, виновато потупились, друг от друга попытались отсесть.
А я хоть и не взяла еще в толк, о чем они, но почуяла гадкое. Еле досидела до конца, а у самой сердце в висках стучало, и ныло внутри: Согдай, Согдай! Глазами отыскивала — вдруг тут, не о ней разговор! — но не было ее.
Но вот ударил в последний раз сказитель по струнам, я тут же обернулась к сплетницам — только ни одной уже не было. И тут меня позвали:
— Ал-Аштара! — Меж людей проталкивался Талай. — Царевна! — сказал он и, схватив меня за локоть, повлек из толпы. — Беда, царевна. С Согдай беда.
«Вот оно», — поняла я. Лицо его было горькое и взволнованное, каким никогда не видала.
— Упала? Убилась? — посыпались из меня вопросы, но будто против воли, внутри все твердило: не то, не то!
— Ануй людям стал рассказывать, что у него с сестрой… Что у них было… — Он мял слова во рту, не решаясь произнести, и просительно смотрел мне в глаза: вдруг догадаюсь сама. Но потом будто махнул рукой: — Что он с сестрой не раз лежал и потому знал, что не могла без меня она победить. Говорит: сил бы у нее на то не хватило. Говорил: кому, если не ему, знать, какая она наездница. Он уже многим успел о том рассказать.
Во мне сердце упало. Я поняла, о чем шушукались люди. И единственный путь для Согдай поняла в тот же миг, чтобы не принести позора в чертог Луноликой.
— Что она сейчас? — Голос мой показался мне слишком холодным.
Талай отпустил мою руку и сделал шаг назад, вглядываясь в меня, как в незнакомку.
— Царевна, ты же понимаешь, что это ложь, ты не можешь верить, это клевета, царевна! — заговорил он быстро.
— Ануй потерял сегодня честь, а Согдай — долю. Что она сейчас?
— Лежит в моем шатре. Ее мать с младшими в стане, она у меня живет. Я могу провести тебя. Я связал ее, царевна. Она хотела убить себя. Говорит, что Луноликой матери девы не живут после такого позора.
— Она права, но ее посвящение не закончено. Передай ей, что я освобождаю ее от обета. Пусть живет. Передай, что я буду просить отца найти ей хорошего мужа. Это все.
Я замолчала. Талай смотрел на меня странно — впервые смотрел, как на властелина, а не на девочку. С недоумением, горько.
— Поверь, Талай, это все, что я могу теперь для нее сделать.
Я хотела сказать это мягче. Но вышло плохо. Я сама не знала, как себя в тот миг вести.
— Ты не пойдешь к ней, царевна? Ты можешь сказать это ей сама.
— Нет. Я не смогу сказать этого ей, ты сделаешь лучше. Она не просила тебя что-то мне передать?
Он молча мотнул головой.
— Я не думал, что ты поверишь, царевна, — сказал он горько.
— Я не верю, Талай. Ты можешь сказать ей об этом. Но люди поверят и будут помнить. Дурная память живет долго, и я не могу привести ее за нами в чертог Луноликой.
Он молчал, на меня не глядя. Люди разошлись, сказителя тоже не было. По поляне гуляли в темноте пары, слышались песни, смех, беготня. Все мне казались счастливыми и беззаботными. Не такими, как я.
— Наверное, ты права, царевна. Я завтра пойду к царю, буду просить разрешить мне бой с Ануем. Если оставить его слова без ответа, люди сочтут это правдой.
Я кивнула. Я чуяла, что больше нам не о чем говорить, но хотела побыть с ним еще. Мы стояли в темноте, не глядя друг на друга, и я подумала тогда, что мы впервые наедине и больше, верно, не увидим друг друга. Однако все, что я чувствовала в тот момент — только горе от потери доброй Согдай.
И мне вспомнились наши с ней вечера, теплая, тихая дружба и ощущение тайны, что нас объединила, — и только тут сумела я понять, что это была за тайна: глубинное чувство любви мы носили с ней вместе. Моя любовь к ее брату на нее саму падала, как отсвет. А ее любовь к Аную была, догадалась я, хотя не смогла бы понять как, но все — и разговоры ее, и намеки, и смущение — говорило за то. И если Ануй знал это, догадывался, тем больнее и горше должно быть моей Согдайке его предательство.
Я подумала так — и хотела пойти к ней, утешить, уже потянулась было к Талаю, чтобы сказать: «Проводи к сестре», — но встретила его глаза в темноте, такие знакомые, и отшатнулась. Словно со стороны увидала нас: а вдруг догадался бы кто о чувстве, что даже от себя я скрывала? Нет, прячь, прячь ото всех хвост, лиса! Без того много толков про мою у него учебу. Уж лучше мне не видеть его вовсе, уж лучше не появляться на людях с ним!
— Ты передашь все сестре? — только и смогла я вымолвить.
Он кивнул.
— Прощай же.
Я развернулась и бегом пустилась прочь.
«Долг, доля да совесть», — стучало в висках, и слезы закипали у меня на глаза.
Долг, доля да совесть — все, что у меня есть. Я воин Луноликой. Не дева. Не человек.
Грудь схватывало болью.
Но мне тот праздник еще не все преподнес подарки. Задыхаясь, пытаясь удержать горячие слезы, со смущенным сердцем и дурной головой бежала я в темноте. Ноги вывели к царскому шатру. Возле костра сидели люди из нашего стана. Еще издали я узнала голос Ильдазы. Она смеялась и шутила. Ак-Дирьи отвечала ей, а другие хохотали.
— И вот что я думаю, подружка: разрешают ли Луноликой матери деве спускаться в стан, на парней хоть бы издали посмотреть? — громко и весело говорила Ильдаза. — Наверное, разрешают, иначе с чего бы охотники складывали сказки про Лесную Деву, что зимой преследует их — и во сне, и в яви? Верно, и мы с тобой, подруга, будем так, по деревьям, из-за камней на охотников охотиться.
Новая волна хохота охватила людей, когда Ильдаза вдруг стала изображать, как выслеживает кого-то из-за ствола дерева. Лицо ее, еще в краске, которая особенно ярко выделялась при свете костра, было так серьезно и в то же время так смешно, что напомнило мне Ануя в доме Антулы. Сама вдова тут же сидела, улыбалась со всеми, и это совпадение еще сильней меня поразило, и самой мне непонятная ненависть вдруг взметнулась в сердце.
Ильдаза лицом изменилась, как увидала меня. Люди потом говорили, что была я бледна, будто встретила ээ-борзы. Я же помню только, как Ильдаза мне сказала: «Э, верно, царевна с дурными вестями идет», — после чего я стала говорить и говорила без умолку. Слов тех в памяти не осталось — очень хотела их позабыть. Всю свою усталость от этих шуток и разговоров, все раздражение на Ильдазу и Ак-Дирьи, всю боль за Согдай и потерю Очи, всю ненависть на людскую злобу и зависть — все это я в свои слова тогда вложила.
Ильдаза сначала растерянно на меня смотрела, а потом ее лицо стало каменным. Она заговорила, когда я замолчала. Мне стыдно вспоминать о той ссоре. Никогда прежде и никогда после не вела я себя так. Люди, бывшие у костра, тихонько стали уходить, чтоб на них не попало наше зло.
Все кончилось тем, что Ильдаза сказала, глядя мне в глаза:
— Может, Согдай и не повезло, но я рада за нее, что ты ее отлучила. А я сама ухожу. Мне нечего делать там, где я быть не хочу, с вождем, которого над собой не желаю.
От этих слов меня как подрубили. Не думала я, что так все кончится. Как будто после злобы возможен мир. Как будто после ссоры возможна дружба. Тут только, отхлынув, я взглянула на все как бы сверху и ужаснулась. Я теряла людей, они покидали меня, как дерево осенью покидают желтые листья. Я почуяла, что сейчас зарыдаю и, отвернувшись, сказала глухо: