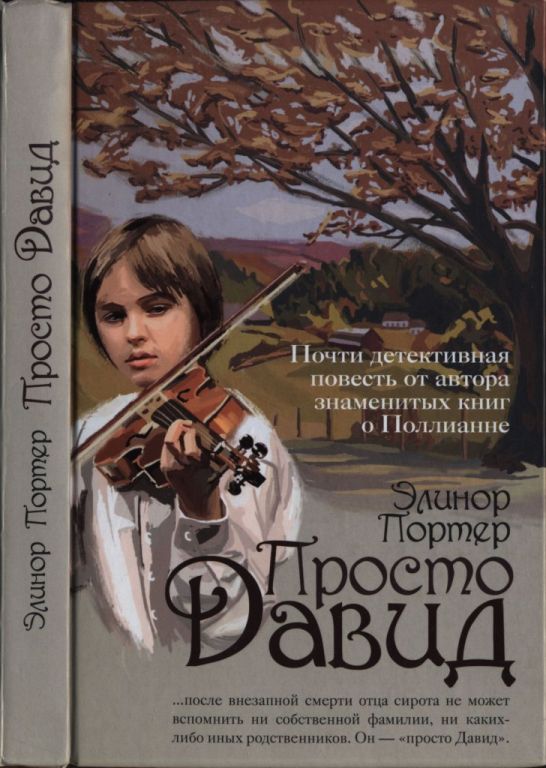счастлив. Но, в конце концов, Давид, ты же знаешь, что счастье внутри тебя. Может, половина этих людей по-своему счастлива.
— Вот! И в этом другая проблема, — вздохнул Давид. — Видите ли, я и сам это понял — про счастье внутри — довольно давно. И рассказал об этом Госпоже Роз. Но сейчас… у меня у самого не получается сделаться счастливым.
— Что случилось?
— Понимаете, тогда должно было кое-что случиться — кое-что приятное. И я обнаружил, что при одной мысли об этом можно спокойно собирать сено и мотыжить и все такое. Вот я и рассказал Госпоже Роз, что, даже если ничего прекрасного не ожидается, она могла бы просто вообразить, что оно произойдет, и это совершенно одно и то же, ведь именно мысли сделали мои часы солнечными. А вовсе не само событие. Я сказал, что знаю об этом, потому что ничего еще не произошло. Понимаете?
— Думаю… да, Давид.
— Так вот, я обнаружил, что это совсем не одно и то же. Теперь, когда я знаю, что это прекрасное событие никогда не случится, я могу думать и думать целый день, и ну ничегошеньки хорошего от этого не происходит. Солнце такое же жаркое, и моя спина так же сильно болит, и поле такое же бесконечное, каким оно было, когда я решил не считать все эти часы. Так в чем же дело?
Мистер Джек рассмеялся, но немного грустно покачал головой.
— Ты зашел в слишком глубокие для меня воды, Давид. Подозреваю, ты бултыхаешься в море, где с начала времен перевернулось множество лодок с мудрецами. Но что же такое приятное теперь не произойдет? Возможно, с этим я мог бы помочь.
— Нет, вы не могли бы, — нахмурился Давид. — И никто бы не мог, знаете, потому что теперь я не вернусь назад и не дам этому случиться, по крайней мере, пока я сознаю, что делаю. Если бы я так поступил, то не осталось бы никаких солнечных часов — даже после четырех. Я… я бы чувствовал себя очень плохим человеком! Но чего я не понимаю, так это что теперь делать с Госпожой Роз.
— А какое она имеет к этому отношение?
— Ну, в самом начале, когда она сказала, что у нее не бывает солнечных часов, я рассказал ей…
— Что она сказала? — перебил мистер Джек, вдруг резко выпрямившись.
— Что у нее не было часов, которые могла бы сосчитать.
— Сосчитать?
— Да, как солнечные часы. Разве я вам не рассказывал? Да точно рассказывал — о словах на циферблате — о том, что пасмурные часы не считаются. А она сказала, что ей нечего считать, потому что для нее никогда не светит солнце.
— Как же так, Давид? — усомнился мистер Джек дрожащим голосом, — ты уверен? Именно так она и выразилась? Наверное… ты ошибаешься, ведь у нее есть… есть все, чтобы быть счастливой.
— Нет, я не ошибаюсь, ведь я сам сказал ей то же самое потом. А еще я сказал ей, когда сам это понял, ну, вы знаете… что считается только то, что у нас внутри. И спросил ее, не могла бы она думать о каком-нибудь приятном событии, которое когда-нибудь случится.
— Ну и что она ответила?
— Она покачала головой и сказала: «Нет». А потом отвернулась, и ее глаза стали нежными и темными, как маленькие омуты, где ручеек останавливается отдохнуть. И она сказала, что когда-то надеялась на одно событие, но его не случилось, и, чтобы оно произошло, необходимо больше, чем воображение. И теперь я знаю, что она хотела сказать, потому что одного воображения не хватает, правда?
Мистер Джек не ответил. Он поднялся и принялся беспокойно мерить шагами веранду. Один или два раза он обращал взгляд к башням «Солнечного холма», и Давид заметил, что лицо его приняло новое выражение.
Однако очень скоро его взгляд вновь стал усталым, и он снова сел, пробормотав: «Дурак! Конечно, она говорила не… об этом!».
— О чем?
Мистер Джек вздрогнул.
— Э-э… ни о чем. Ты все равно не поймешь, Давид. Продолжай… свой рассказ.
— А я уже закончил. Это все. Только сейчас я думаю — как же у меня получится узнать здесь про этот прекрасный мир, чтобы… рассказать отцу?
Мистер Джек поднялся. У него был вид человека, который решительно взвалил на себя тяжелый груз.
— Ну, Давид, — улыбнулся он, — как я уже говорил, ты все еще плаваешь в море, где очень много перевернутых лодочек. Возможно, на этот вопрос найдется немало ответов.
— Мистер Холли говорит, — печально сказал Давид, размышляя вслух, — что нет никакой разницы, считаем ли мы вещи прекрасными или нет. Мы здесь, чтобы сделать в этом мире что-нибудь серьезное.
— Чего-то в этом роде я и ждал от мистера Холли, — мрачно отреагировал мистер Джек. — Он так и поступает — и выглядит соответствующим образом. Но… полагаю, что ты не скажешь этого отцу.
— Нет, сэр. Думаю, нет, — торжественно согласился Давид.
— У меня есть идея. Должно быть, как и говорил твой отец, ты найдешь ответ в своей скрипке. Попробуй и выясни, так ли это. Ты сделаешь прекрасным все, что не кажется таким, ведь мы находим то, что ищем, — а ты ищешь прекрасное. И, знаешь, если выйти вперед с гордо поднятой головой и со всей мочи петь свою песенку, думаю, окажешься близко к цели. Ну вот! У меня вышла проповедь, хотя я вовсе не хотел… Но, честно говоря, я скорее обращался сам к себе, потому что… я тоже ищу прекрасный мир.
— Да, сэр, я знаю, — с жаром ответил Давид.
И мистер Джек, глядя в сияющие темные глаза, в которых явно читалось сочувствие, вновь задался вопросом, мог ли Давид это знать.
Мистер Джек до сих пор не привык к Давиду — его было «слишком много». Был мальчик, был художник и еще третья личность — такая неуловимая, что для нее не удавалось подобрать название. Мальчик был радостный, порывистый, доверчивый и восторженный — прямо-таки брызжущий весельем озорник. Художник был как натянутая струна — готовый найти мелодию и ритм в любой мелькнувшей мысли или летящем облачке. Третий — этот загадочный третий, которому не получалось подобрать имя — был мечтателем, провидцем и бесплотным существом, парившим так высоко над вашей головой, что его нельзя было поймать, утянуть вниз и хорошенько рассмотреть. Обо всем этом мистер Джек размышлял, глядя в сияющие глаза Давида.
В сентябре Давид пошел в местную школу. Школа и Давид не