Бабушкина поместили в общую камеру, где сидело восемнадцать политических.
И вот радость: среди узников Иван Васильевич увидел огромного плотного мужчину с могучими плечами и широкой — веером — бородой. Хотя глаза арестанта были скрыты темными стеклами очков, Бабушкин сразу узнал его:
— Василий Андреевич!
Да, это был Шелгунов, его старый друг еще по Питеру, участник ленинского кружка.
Они обнялись, расцеловались.
— Что у тебя с глазами? — тревожно спросил Бабушкин, подсев на нары к Шелгунову и глядя на темные стекла его очков.
— Плохо, Ваня, — ответил тот. — Слепну.
— А врачи?.
— Врачи говорят — лечиться надо. Долго, систематически: год, а может, и два. В больницах, на курортах. Ну, а как подпольщику лечиться? — Шелгунов усмехнулся. — Из тюрьмы да в ссылку, из ссылки — в тюрьму. В тюрьме, правда, тоже строгий режим, питание по часам — три раза в день, и спать рано укладывают, а все-таки тюрьма и курорт маленько отличаются друг от друга!
Заметив, что Бабушкин погрустнел, Шелгунов хлопнул его по колену и бодро сказал:
— А в общем, унывать не стоит! Вот грянет революция — потом полечимся![20]
Бабушкин и Шелгунов наперебой расспрашивали друг друга о партийных делах, о товарищах по Питеру, о ссылке.
Как давно они не виделись! Подумать только! Почти семь лет. С тех пор как Шелгунова арестовали вместе с Лениным в морозную декабрьскую ночь. Оказалось, Шелгунов пятнадцать месяцев просидел в одиночной камере петербургской «предварилки». Потом был выслан на Север, в Архангельскую губернию. После ссылки в столицу не пустили, стал жить под «гласным надзором» здесь, в Екатеринославе.
— В Екатеринославе? — перебил Бабушкин. — А я как раз незадолго до того уехал отсюда!..
— Да, я знаю, — улыбнулся Шелгунов. — Меня тут так и называли: заместитель Трамвайного.
…В тюремной камере медленно тянулись день за днем. Друзья подолгу шепотом беседовали. Будто чуяли: скоро придется расстаться.
И вправду — вскоре «особо важного государственного преступника» Бабушкина перевели в четвертый полицейский участок.
Массивная железная дверь захлопнулась с лязгом, тяжело, как дверь несгораемого шкафа.
Бабушкин огляделся. В новой камере он был не один. На нарах сидел худощавый, болезненный на вид юноша с огромной лохматой шевелюрой и свалявшейся бородой. Парень раскачивался из стороны в сторону, и губы его шевелились, словно он шептал какие-то заклинания или бормотал наизусть стихотворения. Рядом валялась синяя студенческая тужурка.
На Бабушкина он не обратил никакого внимания, даже не поднял головы.
В камере было грязно, пол не подметен, на нарах разбросаны дырявые, скомканные носки, носовые платки, одеяло сползло на пол.
Бабушкин, ни слова не говоря, снял пиджак, стал подметать.
Лохматый парень по-прежнему сидел на нарах, раскачивался и что-то бормотал.
«Молится? — подумал Бабушкин. — Или больной?»
Попросил у надзирателя ведро воды, тряпку и стал мыть щербатый каменный пол.
Студент поднял взлохмаченную голову, несколько минут удивленно наблюдал за Бабушкиным. Ехидно спросил:
— Выслужиться хотите? Заработать благодарность от начальника тюрьмы?
Иван Васильевич пропустил мимо ушей злую иронию студента.
— Жить надо по-человечески! Всегда и везде, — спокойно ответил он, продолжая мыть пол.
Два дня заключенные почти не говорили друг с другом. Бабушкин недоверчиво приглядывался к лохматому студенту. Не шпик ли, нарочно подсунутый охранкой к нему в камеру? Хотя… Такого чудного вряд ли станут подсаживать.
— Кто вы? — однажды спросил Бабушкин студента. — За что сидите?
— Исай Горовиц, — студент шутливо щелкнул каблуками. — Задержан за участие в манифестации.
— Горовиц? — недоверчиво переспросил Бабушкин. — А у вас сестры нет?
— Как же! Есть! Она сама недавно из тюрьмы.
— А как ее зовут? — все так же недоверчиво продолжал допрашивать Бабушкин.
Он знал подпольщицу Густу Горовиц. Когда-то они вместе работали в Екатеринославе.
— Сестру зовут Густа Сергеевна, — ответил студент.
«Так», — подумал Бабушкин.
Все как-то очень гладко сходилось. Это настораживало. Бабушкин пристально, в упор поглядел в глаза студенту. Стал дотошно расспрашивать: какая из себя Густа, как ходит, как говорит.
— Экзамен! — засмеялся студент. — Пожалуйста! Не возражаю!
Он подробно описал наружность сестры, сказал, что у нее привычка: когда слушает, барабанит ногтями по столу.
— А какое ее любимое словечко? — спросил Бабушкин.
— «Принципиально!» — усмехнулся студент. — У Густы все «принципиально». По-моему, она даже воздухом дышит «принципиально».
Все было правильно. Бабушкин обрадовался.
— Надо передать ей записку.
— А как? Сквозь стену?
Бабушкин не ответил. Постучал кулаком в железную дверь.
— Ну? — заглянул в «глазок» надзиратель. — Чего буянишь?
— Послушай, старина, — сказал Бабушкин. — Хочешь заработать?
— Это смотря как.
— Да очень просто: передай записочку. Вот его сестре.
— Это смотря чего в записочке. Ежели про политику — и не заикайся.
— Какая тут политика?! — воскликнул Бабушкин.
Протянул тюремщику клочок бумаги. Всего несколько слов.
«Мы живы, здоровы. Горовиц. Бабушкин».
— Ну, живы-здоровы — это ладно, — сказал надзиратель.
С тех пор Иван Васильевич стал подолгу беседовать со студентом. Бабушкин узнал, что Горовиц — совсем еще неопытный, «зеленый» новичок, впервые принявший участие в студенческих «беспорядках».
— Хотите бежать? — однажды неожиданно спросил он студента.
— Что вы, что вы! Как отсюда убежишь? Невозможно!
Бабушкин улыбнулся:
— Один умный человек меня учил: нет таких тюрем, из которых нельзя бежать. Нужно лишь желание, настоящее желание!
На всякий случай он не сказал, кто этот умный человек. Прикрыл глаза, и память тотчас вырвала из темноты высокий лоб, чуть прищуренные глаза, острую бородку. Как давно он не видел Николая Петровича! И сколько еще не увидит?!
Да, надо обязательно бежать. И пробраться за границу, к Ленину. Не такое сейчас время, чтоб рассиживать в тюрьмах! У партии каждый человек на счету. Бежать. Непременно!
— Нужно лишь настоящее желание, — повторил Бабушкин.
Он с нетерпением ждал ответа от Густы Горовиц.
Вскоре узникам передали записку. В ней была всего одна фраза:
«Добейтесь разрешения на передачи».
Бабушкин ликовал.
— Строчите нижайшую просьбу начальнику полицейского участка, — весело сказал он студенту. — Я бы сам написал, да у меня здесь родных нет. А впрочем, мне бы все одно не разрешили.
Через два дня Горовицу сообщили распоряжение начальника:
«Дозволяется получение питательных предметов, как-то: колбасы, сала, хлеба; а также подушки, штанов и исподнего. До выдачи заключенному означенных вещей производить тщательный досмотр».
Спустя несколько дней надзиратель, отворив в двери железную «форточку», через которую узникам передавали пищу, сказал:
— Горовиц! Готовьсь к свиданью! Невеста пожаловала.
— Невеста? — изумленно воскликнул Исай. — Какая?
Бабушкин, крепко стиснув ему локоть, шепнул:
— Молчите.
— Какая! — передразнил надзиратель. — Обнаковенная. Видать, соскучилась.
Форточка со скрежетом захлопнулась.
— Это недоразумение! — сказал Бабушкину студент. — У меня нет никакой невесты. И никогда не было!
— А теперь будет! — усмехнулся Бабушкин.
Он усадил взволнованного студента на табурет.
— Эту девушку, очевидно, направил комитет партии, — сказал Иван Васильевич. — Вероятно, на воле хотят установить с нами прочную, постоянную связь.
— Но почему обязательно «невеста»? — раздраженно воскликнул Исай, вскочив с табурета. — Могла бы эта женщина назваться тетей, сестрой. Ну, на худой конец — племянницей! «Невеста»! Выдумают тоже! Ведь на свидании присутствует надзиратель. А с невестой любезничать надо! Чувства проявлять! Нет, не могу!
— Успокойтесь, Исай, — сказал Бабушкин. — Комитет поступил правильно. Выдать себя за вашу тетю или сестру эта девушка не могла. По паспорту и другим документам тюремщики сразу обнаружили бы обман. А невестой любая девушка может быть. Не придерешься!
— Но как же я буду беседовать с моей горячо любимой «невестой»? Ведь даже имени ее не знаю! — схватился за голову Исай. — Позову: «Таня»! А она вовсе Маня! Надзиратель сразу поймет: дело нечисто.
— Ничего, — успокоил Бабушкин. — Называйте ее почаще «милая», «дорогая», а по имени не зовите…
Исай лег на нары. Пролежал несколько минут. Бабушкин исподтишка наблюдал за ним. Кажется, успокоился. Вот и хорошо!

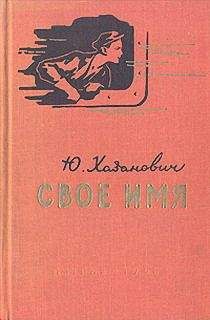

![Сергей Лексутов - Ефрейтор Икс [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/96438/96438.jpg)

