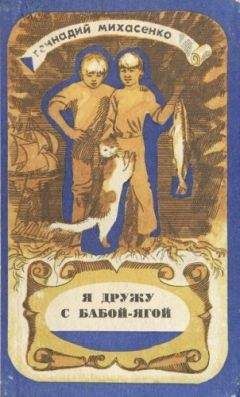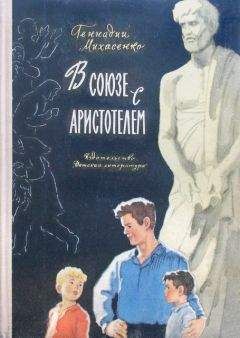— Сюда!
Я шмыгнул в дверь.
В коридорчике теснились пацаны, человек десять, но не в синей форме, а в зеленой, и не в пилотках, а в беретах. И ни одного знакомого лица. Ледяными скобками свело мои лопатки — я понял, что это и есть засада, только не наша, а их! Никуда, значит, они не уехали, как показалось «Шараде», а каким-то чудом проникли сюда! Но причем тут Сирдар, наш юнга? Я оглянулся. Митька улыбнулся мне так широко и так пррлорю, что я вдруг ощутил ядовитость этой улыбки, улыбки предателя!
Один из зеленых, постарше, спросил у Сирдара:
— Никого больше?
— Никого! Лагерь пуст! Можете...
— Молодец! Мы этого не забудем! — сказал старший и обратился ко мне: — У тебя нет насморка?
— Нет, — ответил я и замер с открытым ртом, потому что за плечом этого парня увидел Федю Лехтина.
— Значит, жив останешься! — заключил парень и старательно, с прокрутом, как запечатывают бедствующее на море люди бутылкy со спасительной запиской, засунул мне б рот вчетверо сложенное полотенце. — Запомни, юнга: лучшее лекарство от насморка — это кляп! — добавил он неторопливо.
А дальше пошло быстрее.
Я рванулся, но было поздно — меня схватили, связали по рукам и ногам, подняли, распахнули мной, как тараном, дверь в моечную, внесли туда и бережно опустили в пустую ванну, где мы ополаскивали посуду. Я с безразличием ожидал, что они и воду открутят, но они лишь короткой веревкой зачем-то привязали меня за пояс к крану, который подходил к ванне в середине.
Дверь захлопнулась, но тут же открылась опять, и чья-то рука зашвырнула в моечную и Шкилдессу, как будто она, как ученая собака, могла понять человеческую беду и привести наших на выручку. Шоркнула палка, задвинутая в дверную ручку, — и все, от Ушки на макушке остались рожки да ножки.
Слетайся, воронье!
Я не переживал, что попался, — я знал, что буду переживать потом, даже двойное предательство — Феди и Митьки — не очень занимало меня, я думал об одном — как освободиться!.. Спешил на военный совет, вояка, — вот и совещайся! Умри, но освободись и помешай зеленым! Самому — нет, не выбраться! Поднять шум и привлечь внимание Егора Семеновича — единственный шанс. Шум!
Я сел. Веревка, державшая меня, была крепкой — не порвать. В двух метрах на лавке стояли тазы с вилками, ложками и ножами. Будь Шкилдесса поумней, хапнула бы зубами нож да — жик-жик! Или бы перегрызла веревку! Есть же такие собаки! Я бы выкувыркнулся из ванны и так бы начал трясти полки с мисками и кружками, так бы они у меня посыпались, и так бы погонял их по полу, что в Америке бы услышали, не то что в складе! Но привязь была надежной — все учли, проныры зеленые! Знал бы только Димка, где я и что со мной — на крыльях бы прилетел!
Простонав от боли в челюстях и беспомощности, я лег опять и давай бить сапогами по ванне, но чугунная посудина, в которой я же был глушителем, отзывалась тупо и равнодушно, принимая меня, наверно, за какую-то грязную болванку. Я задрал ноги и попробовал колотить в стенку, но удары получались бессильными. До окна не дотянуться, там вторая ванна — для горячей мойки. А и дотянусь, выбью стекло в сторону леса — много ли шума? Тут шишки громче падают на крышу! Такого старик не расслышит. Залаяла бы Шкилдесса — вот был бы шум! К сожалению, кошка лаять не умела! Но умела мяукать, и весьма отчаянно, если ее очень попросить!
У меня мелькнула слабая надежда.
Я снова сел. В помещеньице держался пряно-кисловатый запах полуеды-полупомоев, который, похоже, понравился Шкилдессе, и она усиленно обнюхивала углы, где этот запах был, наверно, гуще, такой, наверно, как у меня во рту от засаленного кухонного полотенца. Я замычал — ноль внимания. Я поскреб эмаль — кошка оглянулась и, поняв, что это мои шуточки, опять уткнулась носом в щель. Тогда я лег, перевернулся почти на живот, но так, чтобы пальцы доставали стенку ванны, и продолжил скреб, как умея подделываясь под мышь. Шкилдесса клюнула: короткое «мр-р» — и она у меня на спине. Боясь спугнуть ее н ловким движением и зная, что второй раз она не скор соблазнится моей «мышкой», я зашевелил пальцами, как та водоросль щупальцами, которая ловит рыбок. Мне нужно было, чтобы кошка хоть чуточку подыграла мне. И она, умница, подыграла — тронула лапкой мои пальцы, и они захлопнулись капканом. Перехватываясь по шерсти, я добрался до хвоста и надавил его.
Муркнув, Шкилдесса принялась было лизать мне пальцы, лотом — кусать их с урчаньем, потом мявкнула, метнулась прочь и лишь тут-то заорала вовсю, как и требовалось. Потолка в камбузе не было, а сразу — тонкая пластиковая крыша, до которой стенки не доходили, так что кошачий вопль, усиленный всякими отражениями, понесся, по-моему, из камбуза, как из мегафона.
Больше я не давил, а просто держал — кошка сама, вырываясь, причиняла себе боль и орала благим матом, вертясь и впиваясь зубами и когтями в мои руки. Я бы тоже, наверно, взвыл, если бы не кляп, а так мне оставалось только дергаться, правда, руки я малость припрятал, повернувшись набок, и Шкилдесса частично отводила душу на робе. У меня выступили слезы от жалости к себе и к кошке, но хвоста я не выпускал.
И вдруг раздался голос:
— Эй! Что там за изверг?
Это был Егор Семенович! От радости мои онемевшие пальцы чуть не разжались, но я собрал крохи сил и стиснул их еще. Шкилдесса перешла на утробный лесной рык.
— Кто мучает кошку? — строже прикрикнул дед и затопал к подсобкам. — Кс-кс-кс-с!.. Где вы тут? — Стукнула одна дверь, другая. — Да что такое? Кыса, где ты?.. А это что за палка? Закрыли! Вот фулиганье! Вот живодеры! — Зашеборшало, я отпустил хвост, Шкилдесса вылетела из ванны, крутя им, как пропеллером, и сразу — к двери, плаксиво мяукая. Я сел и привалился плечом к крану. Перед глазами плыли круги, все покачивалось, как будто в моечной штормило.
- Сейчас-сейчас! — приговаривал дед. — Посуду теряют, тряпки разбрасывают, над старыми изгаляются! До кошек добрались! Осталось только мину под начальника подложить! — Мирное поварчивание Егора Семеновича означало, что ничего подозрительного в лагере он не заметил. Привыкший все подбирать, он вечно ходил с опущенной головой и мог, даже столкнувшись с зеленым, не обратить на него внимания. — Да кто же это так заложил, язви его!..
Палка треснула, дверь открылась, я мыкнул, дед вскинул голову, и его как парализовало.
— М-м-м! — поддал я.
— Свят-свят! Семка, что ли?
— М!
— Батюшки! Как же это ты тут?
Старик подковылял ко мне и вытащил кляп. Какое-то время я оставался с разинутым ртом, потом медленно, как на ржавых шарнирах, свел челюсти и с трудом сказал:
— Зеленые в лагере!
— Кто?
— Режьте скорей веревки!
— Хорошие веревки! Зачем резать—пригодятся!— рассудил завхоз, рассматривая мои путы. — Так кто это, говоришь, тебя?
— Враги!
Пока Егор Семенович распутывал на мне узлы, я растолковал ему, что произошло. Он как-то верил и не верил моим словам. Выбравшись, наконец, из ванны, я приказал старику действовать по своему усмотрению и выскочил на камбузное крыльцо.
Флаг был на месте!
Но возле мачты, словно подрубая или подпиливая ее, возилось несколько зеленых фигур. Сбежав с крыльца, я тылами кубриков, в которых слышались какие-то движения и голоса, прокрался к плацу. Нет, мачту зеленые не трогали, они лишь встряхивали и дергали фал, на котором, сильно оттягивая его то в одну, то в другую сторону, с треском бился и метался флаг, словно хотел сорваться и улететь в тайгу или в море, — только бы не достаться чужим! Это усилие и заклинило, кажется, фал в блоке. «Держись, флажок!» — крикнул я про себя и бросился к ГКП. Меня заметили, но задерживать не стали. Я взлетел на балкон, чтобы ударить тревогу...
Рынды не было!
И тут флаг, наш военно-морской флаг, изо всех сил державшийся в вышине, заскользил вниз, в руки противника! Словно холодный трезубец вошел мне между лопаток.
От кубриков донеслись ругательства Егора Семеновича, начавшего действовать. Взбодренный подмогой, я хотел было кинуться на зеленых — будь что будет, ясно понимая, что я не Ухарь, а их даже не трое, а пятеро, но тут старший, который интересовался моим насморком, приказал:
— Ты — держи юнгу! Как он, черт, выбрался! Ты — в штаб! Остальные — к шлюпкам! В темпе!
И на меня, раскинув руки и блокируя лестницу, двинулся... Федя, пришептывая с улыбкой:
— Сема, не шали!.. Тихо, Сема!..
Какие-то секунды я стоял недвижно. Если бы я не увидел Федю в камбузе, я бы, наверно, от неожиданности бросился к нему, как к своему, за помощью, но теперь я уже знал, что Федя — враг. Улыбающийся враг! Почему это все предатели улыбаются? Прощения просят, что ли — мелькнула у меня мысль, и тут же я пришел в движение. Швырнув стул навстречу поднимавшемуся по ступенькам Феде и сбив его с ног, я поднырнул под перила, маханул в кусты и кубарем скатился к заливу. Береговым ветром дебаркадер вместе с мостиком оттянуло метра на три-четыре. Опередив зеленого, я с размаху бухнулся в воду, вылез на мостик и метнулся в штаб. Схватив за печкой ружье и в столе три патрона, я зарядил и выскочил на палубу. Зеленые, тот кого послали в штаб, и подоспевший Федя, выбирались уже, мокрые, на мостик. Я вскинул ружье и крикнул: