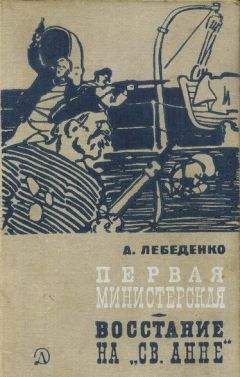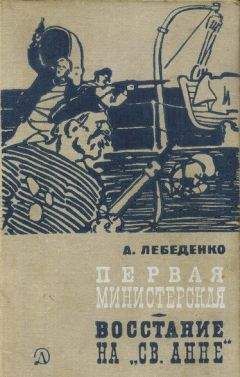— А вы думаете, что Миша пошел к террористам? — спросил Андрей.
— Куда он мог пойти? Ведь он еще мальчик… И где это живут террористы? Вы знаете адрес террористов? Но для меня ясно, что Миша в отчаянии и готов пойти на самые нелепые шаги… Если бы я знал, где он, я научил бы его, что делать. Я послал бы его на завод. Там он научился бы бороться вместе с миллионами, которые не могут не победить.
Яша говорил теперь горячо, жестикулируя, и Андрей думал, глядя ему в лицо: «Как он разгорячился. Глаза горят, а говорит, как оратор».
— Вашего приятеля, Петьку Стеценко, я уже устроил на завод, и он очень доволен. Там из него выйдет толк.
Но гимназисты ушли от Монастырского с уверенностью, что Миша отправился именно к террористам. В газетах то и дело пишут о взрывах бомб, о покушениях на губернаторов и министров. Миша тоже где-нибудь в подполье готовит бомбы или перевозит динамит.
Маленький Миша Гайсинский вырастал в представлении мальчиков в героя революции, подобного Желябову, Перовской.
— А я не верю в эти штучки, в миллионные армии, в кружки на заводах, — запальчиво заявил на улице Ливанов. — Революционер — это тот, кто не ждет, пока с ним будут тысячи.
— Нет, это величественно, — размышлял вслух Андрей, — собрать миллионы. — Он рисовал в воображении площадь в рядах и знаменах. — Ряды, ряды!.. Армия — это сила!
Товарищи решили никому в гимназии о Мише Гайсинском не рассказывать, но слухи, что Миша Гайсинский поджег Отрадное и был арестован, пошли по классу.
Через день говорили уже, что Миша бежал из полицейского участка, затем перевозил для террористов динамит, что где-то — кажется, в Бердичеве на вокзале — он был арестован вторично с четырьмя чемоданами, набитыми бомбами.
Андрей решил, что это проболтался Ливанов, и высказал свое подозрение. Но Ливанов сразу обиделся и не стал даже оправдываться. Котельников в ответ на такое же обвинение взял Андрея за плечи и дал ему пинка, от которого тот оказался на другом конце класса. Андрей не обиделся. Наоборот, он сразу же уверился в том, что Котельников не виноват. Осталось пребывать и дальше в недоумении.
В горбатовской гимназии, как и в других, был обычай дарить любимым учителям в день рождения или юбилея подарки. Заранее узнавали день семейного праздника педагога-любимца, устраивали складчину и с торжеством преподносили серебро или торт на дому. Педагоги, не завоевавшие симпатии гимназистов, этой чести никогда не удостаивались, и гимназическое начальство не одобряло этих подарков.
Признательность молодежи завоевать нетрудно. Кто преподает увлекательно, не издевается, не грозит на каждом шагу волчьим билетом, изгнанием из гимн'азии, не ставит направо и налево колы, тот и хорош.
Но когда был поднят вопрос о том, что четвертого октября, в день рождения Игнатия Федоровича Марущука, следует преподнести ему какой-нибудь подарок, в классе дело не пошло гладко.
Усевшись на кафедре и прищурив правый глаз, Козявка заявил, что таким, как Марущук, он может послать только открытку с фигой.
— Ты болван, Козявка. Не понимаю, как у тебя хватает совести нести такую чушь перед всем классом! — возмутился Ливанов.
Козявка тяжело соскочил с кафедры, стукнул кулаком по доске и с необычайной для него экспрессией закричал:
— А как у тебя хватает смелости предлагать классу дарить подарки бунтовщику?
— Ты думай, о чем говоришь! — крикнул Андрей.
Матвеев по-кавалерийски — раз-два-три! — перепрыгнул через парту и, оказавшись на середине класса между Козявкой и Ливановым, закричал:
— Конечно, бунтовщик! А Мишка Гайсинский разве не бунтовщик? Бомбист, убийца! Ваш приятель!
— Если ты знаешь о Гайсинском хоть что-нибудь, кроме сплетен, то тебе стыдно говорить о нем такие вещи, — с места сказал Котельников.
— Если ты знаешь о Гайсинском все, то тебе должно быть стыдно за все наши порядки! — закричал, вскакивая, Берштейн.
— Обизвався козак на солодким меду! — осклабился Козявка.
— Кому и защищать бомбистов, как не тебе.
— Тебе, болвану, не втолковать такие вещи, — сорвался с места, весь встрепанный, Якубович, — но это, конечно, черт знает что, готтентотские нравы! Мальчика, подростка хватают, тащат в участок на другой день после того, как черносотенцы убили его отца и сестру. Перестрелять такую сволочь мало!
— Это кого перестрелять? Ты говори прямо! — закричал Козявка.
— Не виляй хвостом! — поддержал Матвеев.
— Кого? — спросил Якубович, выдерживая паузу. — Ты не знаешь кого, я бы не постеснялся тебе сказать, но, во-первых, считаю бесполезным, а во-вторых, желаю избавить тебя от необходимости сделать подлость, пойти и наябедничать директору.
— Трусите, подлецы! — обрадовался Козявка. — Все намеками. Смелости не хватает сказать честно. И какой ты мне товарищ?! Ты — враг.
Якубович уже не сдерживался:
— Ах, так?! Так я тебе скажу: всех твоих гадов, начиная…
Котельников усадил Якубовича на парту и плотно закрыл ему рот рукой.
— Ну вас к черту, тут с вами дел не оберешься. Довольно! Я вижу, нам не сговориться. Мы действительно не товарищи, а враги. Война — так война. Предлагаю всем порядочным шестиклассникам с Козявкой и его компанией не разговаривать.
— Плевать я на тебя хотел, — презрительно заявил Козявка. — Вам же хуже будет…
Со всех сторон к нему собирались «патриоты»: Матвеев, Казацкий, Салтан… Ободренный верностью друзей, Козявка подошел вплотную к парте Василия и дерзким тоном заявил:
— Я вот устрою заставу богатырскую у дверей класса, ты не выйдешь и не войдешь.
Котельников насупил резко выведенные черные брови.
— Что ж молчишь, смелости набираешься? — спросил Козявка.
Василий поднялся с парты и молча пошел к выходу.
Козявка схватил его за кушак и с силой рванул к себе. Металлическая перемычка на серебристой пряжке сломалась, и кушак остался в руках Козявки.
— Отдай! — резко потребовал Василий.
— Пойди возьми! — крикнул Козявка, бросая кушак в угол за доской, где стоял широкий мусорный ящик. Компания Козявки заржала.
Тогда Котельников сам шагнул к Козявке и схватил его за грудь. Козявка изогнул спину бугром и пытался поднять Котельникова и бросить на парту.
Борьба длилась недолго. Васька железной хваткой схватил Козявку накрест и упорно, по-бычьи начал ломать тугую Козявкину спину. Весь класс замер. Никто не посмел броситься на помощь товарищам.
Козявка рывками пытался сбить Котельникова с ног. Но Васька стоял крепко. В злобе Козявка схватил его за подбородок, оставляя на щеке царапины.
Друзья Котельникова закричали:
— Неправильно, неправильно!
Но Василий, не обращая внимания на боль, гнул и гнул врага, и вскоре стало ясно, что Козявка выдыхается. В неистовой злобе он впился зубами в Васькино плечо, и тогда Котельников, спружинившись, рывком бросил Козявку на пол.
Только тогда налетели на борющихся одноклассники и растащили их в разные стороны.
Отгорели пожары, прошли городскими улицами печальные кортежи, похороны жертв, и память о погромах стала в стороне от житейского пути школьников, одетых в форму Первой министерской гимназии.
Но события в стране разворачивались, как пружина, освобожденный конец которой со свистом сечет воздух и больно бьет зазевавшихся.
В Одессе гремели пушки «Светлейшего князя Потемкина»; в Маньчжурии закончилась неделя на Шахе; Теодор Рузвельт, президент, банкир и охотник, готовился решать спор русского царя и японского микадо; Москва щерилась рабочими баррикадами, и эти бури большого житейского моря приходили в тихий город на Днепре, волнуя и его прикрытую провинциальной глушью заводь.
В гимназии сначала побеждали семиклассники. Они аккуратно каждый день украшали цветами портреты царя в актовом зале. В церкви на молебнах, на молитве они нарочито громкими голосами отчеканивали: «Благо-вер-но-му им-пе-ра-то-ру на-ше-му!..» Они носили в петлицах георгиевские ленточки, участвовали в монархических манифестациях и писали на стенах, главным образом, в уборных: «Да здравствует самодержавие!» и «Бей жидов!»
Восьмиклассники держались особняком. Они ходили группами, беседовали по углам с задумчивыми лицами, читали появляющиеся из рукавов брошюры и листовки, на молитвах вместо «бла-го-вер-но-му им-пе-рато-ру…» громко мычали, стараясь смять четкость выкриков своих врагов, и рядом с черносотенными надписями писали на стенах: «Долой черносотенцев!» и «Да здравствует республика!»
О том, чтобы привлечь на свою сторону другие классы, гимназические революционеры не заботились. Они как бы рисовались «героическим одиночеством». Иные из них были связаны со студентами из Киева и Одессы, а то даже и с рабочими с небольших горбатовских предприятий, но все это были личные узы, случайное преимущество того или иного гимназического «бунтаря».