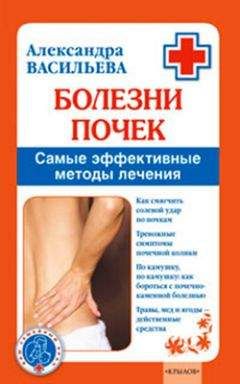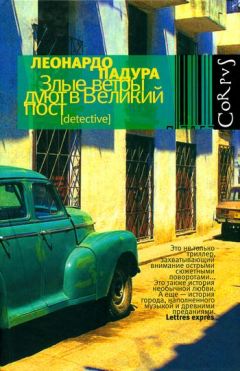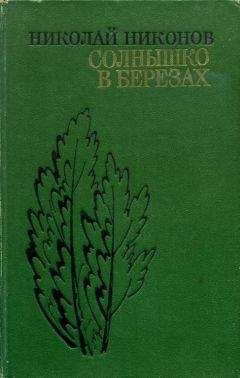На третьи сутки буран стих, и хотя небо не полностью еще очистилось от туч, солнце радовало сердце. Терентий быстро собрал вещи, выставил на стол последнюю банку тушенки, вышел во двор. Он брел по глубокому снегу, который сразу набился в валенки, к домику, где находился взвод охраны – деревушка стояла на перекрестке дорог, в очень удобном месте, потому тут располагались армейские склады. Возле дома стояла крытая брезентом полуторка, и Терентий побежал, спотыкаясь, боясь, что не поспеет, и машина уйдет.
Постучавшись в дверь, Терентий вошел в дом. Охранники – одни спали после караула, другие занимались починкой одежды, чисткой оружия. В углу комнаты сидел молоденький, лет восемнадцати, стянутый новенькими портупеями, лейтенант и что-то резко выговаривал мальчишеским дискантом стоявшему перед ним солдату в грязной засаленной и мятой шинели. Солдат медленно водил головой вправо-влево, будто говоря: нет, нет.
Приблизившись, Терентий увидел, что солдат просто старательно слюнявит языком край скрученной из газеты цигарки. Лицо измученное, а глаза посмеивались.
– В каком вы виде! – кричал лейтенант, недавний, видно, выпускник военного училища. – Небрит, шинель грязная, ремень на боку!
Солдат, наконец, склеил цигарку и ответил:
– А что? Я ведь шофер, товарищ лейтенант. Как шинели не быть грязной, если приходится постоянно под машиной елозить – старенькая она у меня, ломается часто.
Лейтенант взвился со стула и долго грозил пальцем солдату, беззвучно шевеля губами, пока не прорезался голос:
– Не смейте пререкаться со старшим по званию! Наряд вне очереди захотели?
Солдат откинул назад голову, готовясь, вероятно, засмеяться: здесь, в глуши – наряд вне очереди? Снег что ли от крыльца отгребать? Тут он посмотрел на Терентия и неожиданно облапил так, что тот охнул – плечо еще побаливало.
– Тереха! Да ты ли это? Живой, а? Здоровый, а? Ух, ты! А я все у Крюкова спрашивал, где ты есть, как ты в госпитале, – и они закружили по избе, похлопывая друг друга по спине.
Лейтенант застыл с открытым ртом, но, видя, что все внимание подчиненных направлено на двух друзей – ведь как видеть приятно: встретились однополчане, которые на фронте бывают друг другу роднее родных, и махнул рукой.
Вообще-то не такой уж и плохой был этот мальчишка-лейтенант. Всегда подтянут и выбрит, хотя вместо бороды рос какой-то противный, по его мнению, цыплячий пух. Он всегда сурово хмурился, стараясь за напускной строгостью скрыть опасение, что подчиненные не будут его уважать, как командира. А больше того злился на начальство, что его, одного из всех прибывших в полк молодых офицеров, направили в тыл, а остальных – на передовую.
И вот приходится командовать пожилыми дядьками, не раз и не два побывавшими на передовой. В его взвод попадали выздоравливающие солдаты после госпиталя и время от времени то один, то другой отзывался из взвода, а на его место прибывал другой. А он, лейтенант, офицер – в глубине души он считал: боевой офицер – торчит в этой дыре уже третий месяц. Но службу нес исправно, командование им было довольно. Во взводе не было небритых, небрежно одетых, грязных, на каждом – свежий подворотничок. Солдаты старательно выполняли распоряжения командира, и не знал молоденький лейтенант, что за глаза все эти пожилые дядьки звали его просто Вовчиком. И не потому, что не уважали. Просто у многих были дома или на фронте точно такие же мальчики-сыновья, и, глядя на лейтенанта, вспоминали солдаты своих детей, от всей души желая лейтенанту выжить в страшной военной мясорубке.
– Вася, Антипыч! – узнал в солдате-шофере Терентий своего земляка, и тоже начал радостно тискать друга, аж покряхтывал Василий Антипов. – Ты куда? Не к нам ли?
Машина медленно плыла по заснеженной дороге, урчала мотором надсадно и жалобно – полуторка Василия шла первой после снегопада. Он выехал с железнодорожной станции, куда привозил раненых, едва распогодилось. На склады завернул, чтобы не возвращаться пустым, и загрузился снарядами. Антипов – горячий и шебутной, яростный в работе. Только он мог вот так, в одиночку, ехать по заметенной метелью дороге, и никто больше Антипова не делал ездок от полкового госпиталя до станции. Случалось, поучали, мол, зачем рейс продлевать, на склад заезжать да загружаться, себя мучить. На эти слова обычно дерзкий и злой на язык Антипов ничего не отвечал, просто презрительно и смачно сплевывал под ноги нравоучителю и отходил.
Дорога укачивала, Терентия клонило в сон. Заснуть не давал Антипыч – балагурил, рассказывал полковые новости.
– Как там наши: Иваныч, Крюков, лейтенант? – поинтересовался Терентий, ведь на фронте за месяц иной раз столько событий происходило, что и за год не случится.
– Лейтенант ваш теперь старлей, Иванычу медаль дали «За отвагу», говорят, и тебе причитается. А Крюков, – Василий посуровел. – Погиб ваш Крюков.
– По-гиб? – не поверил Терентий. – Не может этого быть, чтобы Андрюшка Крюков погиб! Да он лошадь мог кулаком убить! Болтаешь ты пустое, Васька, – осерчал Терентий на приятеля и отвернулся.
– Не пустое, – возразил Антипыч и поведал про события недавней черной гибельной ночи.
В тот день был большой наплыв раненых: фронт пошел в наступление, и лишь под утро закончились перевязки. Многих успели даже отправить в тыл, остальных тоже приготовили к эвакуации, потому что госпиталь должен был передислоцироваться поближе к передовой.
Тихо в госпитале. Уснули раненые, уставшие санитары, в основном пожилые люди, не чуя беды, спали вповалку в дежурной комнате. А беда уже рядом…
Скользнули из леса белые призраки. Спокойно и деловито зашагали по пустым коридорам высокие светлоглазые парни. Из палаты в палату вползала смерть, которую на острие ножа принесли головорезы из летучего отряда финских лыжников-диверсантов. Здоровые, сильные, видевшие немало крови в рейдах по тылам советских войск, они совершенно хладнокровно убивали раненых ударом ножа. Тех, кто пытался сопротивляться, избив, затолкнули в подвал. Девушек-медсестер заперли отдельно. И у мужчин волосы вставали дыбом от мысли, что им будет горько, а девчатам – того горше: фашисты-финны с женщинами-военнослужащими, особенно медиками, расправлялись жестоко.
– Я к ночи не успел из рейса вернуться, приехал под утро, – Антипыч свел в линию брови, отвернулся от Терентия, может, потому, что не хотел показать набежавшие слезы. – Боже ты мой, что там было! Что было! Раненые порезаны почти все… девчата… – Антипыч все же мазнул рукой по глазам, и Терентия поразила скупая мужская слеза. Он пытался представить зловещую картину разгромленного госпиталя: насколько же все было ужасно, если даже балагура Василия та картина заставила плакать.
– Крюков у нас был всего-то с недельку, ему руку навылет ранило, когда с разведки возвращался. Выписываться утром должен был. Он бы и с вечера уехал: полк-то в наступление пошел, да начхоза не оказалось в госпитале, чтобы вещи ему выдать. Вот и остался до утра. Помогал сначала санитарам, а потом в гараж ушел к дяде Степану помочь с ремонтом машины. Как они в бой ввязались, не знает никто, но у дяди Степана всегда под сиденьем и гранаты лежали, и «шмайсер», ну, и само собой имелась винтовочка. Стрельба, говорят, была страшная. Гранаты – бух! бух! И отбились бы ребята, да финны сарай подожгли. Сарай – пых, как свечка. Но никто из сарая не вышел. То ли погибли уже, то ли решили, что лучше в огне сгореть, а в лапы к извергам не попасть, ведь они бы из ребят, живых, ремни нарезали, по жилочке бы растянули за тот бой. Как сарай загорелся, тут и помощь подоспела – автобатовцы на другом краю села квартировали. Финны ушли, но побили их Крюков с дядей Степаном знатно. Шофера-то с автобата лишь вслед постреляли: поди, поймай финского лыжника в лесу, да и пожар надо было тушить.
Это была последняя встреча Терентия Скворцова с земляком Василием Антиповым: через месяц Антипов подорвался на мине вместе с ранеными бойцами, которых вез на станцию, видно, то была тоже работа финских диверсантов.
… Когда перед мысленным взором деда Терентия проходил последний из погибших друзей, он брал в руку наполненный водкой стаканчик, стукал его донышком о край другой стопки.
– Эх, друзья дорогие! Не дожили до Победы, на деток своих не порадовались! – махом выпивал обжигающую влагу, нюхал хлеб, закусывал квашеной капусткой или груздочком, и, положив на вторую стопку ломоть хлеба, шептал: – Вечная вам память!
И опять задумывался надолго, теперь вспоминая довоенную жизнь и свою утраченную семью. И казалось ему, что, клюквенный морс, налитый в голубые нарядные чашки, похож на кровь.
ВЕРНОСТЬ
Задорно и деловито стрекотал мотор «кукурузника». Может, кому-то этот стрекот казался иным – натруженным или озабоченным, а мне именно таким. Да и как могло быть иначе, если я летела в край своего детства и юности, и сердце пело в унисон с мотором заливисто и радостно. Не проблема добраться до родных мест на поезде, даже дешевле, но ехать пришлось бы целую ночь, а самолетом через два часа я окажусь дома.