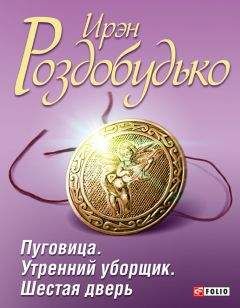Волька насторожился, принюхиваясь… Нет, показалось. Показалось, что к запаху растаявшего на жарком солнце креозота и раскаленной пыли примешался тонкий земляничный запах. Показалось…
В вагоне было не намного прохладнее. Правда, здесь не жгло солнце. Но липкая духота казалась осязаемой. На потолке гудели беспомощные вентиляторы. Поезд вырвался за поселок и теперь мчался во весь опор.
«Да… — думал Волька, подставляя лицо под прохладный ветерок, влетающий в окно. — Конечно, почему бы и не спросить, если она ничего такого не подумает? Только ведь обязательно подумает. Девчонки все такие. Ты им про Фому, а они тебе про Ерему. И вообще, что в этом такого особенного? Если вначале вилкой старательно придавить, а потом как-нибудь накрутить…» Волька вздохнул и почему-то покраснел, несмотря на то что в этом не было ничего особенного.
— Скоро Киев, — заметила Анастасия Ивановн, — Помню… В каком же это году? В пятьдесят девятом? Нет, пожалуй, в шестидесятом…
«В шестидесятом… Когда это было? Телевизоры уже изобрели?» — подумал без трепета перед историей Волька.
В этот момент дверь купе приоткрылась. В образовавшуюся щель просунулась чья-то щекастая физиономия. На физиономию жалко было смотреть, такая она была вся потная и несчастная. Её обладатель, отдуваясь и отфыркиваясь, с тоскливой безнадежностью во взоре оглядел купе.
— И тут занято. А проводница сказала, не занято. А тут занято. Извините, — проговорил он и исчез за захлопнувшейся дверью.
— Как люди живут в Каракумах? — произнесла Инна.
Волька представил как, и поежился.
В Киев поезд прибыл в полдень. Анастасия Ивановна приказала Вольке и Инне сидеть во время стоянки в купе. Особенно это касалось Инны, так как тетя очень хорошо знала свою племянницу. В ответ Инна лишь многозначительно хмыкнула, что в переводе означало: я вас тоже хорошо знаю как родственника и как личность, но я ведь не требую от вас невозможного. Анастасия Ивановна не обратила внимания на подтекст хмыканья, схватила авоську и умчалась на вокзал.
Неожиданно включилось радио и ласково запело:
— Мой белый город, ты цветок из камня,
По улицам твоим и площадям…
А белый город и вокзал плавились под солнцем. Как пломбир или снег. И очень хотелось оказаться где-нибудь среди белого безмолвия, в Арктике, например. Чтобы сунуть там голову в сугроб и сидеть так, блаженствуя, долго-долго, пока не откопают тебя спасатели.
За вагонным окном между тем кипела жизнь. Все спотыкались и бежали. Особенно суетились те, что были с чемоданами и сумками. Своей массой и энергией эти навьюченные пассажиры представляли опасность для ненавьюченных. Они просто таранили толпу, беспорядочно перемещаясь вдоль перрона. Им было особенно жарко. Их было жалко.
Некие личности в больших круглых кепках толпились вокруг пахучей шашлычной жаровни, словно грибной выводок вокруг пня. Они напоминали стайку опят на тонких длинных ножках, гордых своей кучностью… Удивительно, что в такой жаркий полдень, кто-то еще покупал горячее жаренное мясо…
— Какая прелесть, — вдруг сказала Инна.
— Какая прелесть — вставная челюсть, — в рифму парировал Волька, хотя раньше никогда за собой не замечал особого пристрастия к стихосложению. Наверное, это было чье-то отрицательное влияние.
Посреди столпотворения стояли двое и смотрели друг на друга. Им не было дела ни до шашлыков, ни до толкающихся граждан с чемоданами. Он ей что-то объяснял, но было видно, что она не слушает его или не слышит. Она сосредоточенно откручивала у него на рубашке пуговицу, которая почему-то не откручивалась, сопротивлялась. Конечно, это были влюбленные. Причем из тех, которые не прячутся. Таких Волька давно не видел…
— А меня бросили, — неожиданно произнесла Инна и отвернулась от окна, — он даже на вокзал не пришел проводить.
— На маленьком плоту
Сквозь бури, дождь и грозы,
Взяв только сны и грезы… —
пело радио.
«Скверно, конечно, когда тебя отец бросает», — подумал Волька. Ему стало жалко Инну и почему-то ее отца тоже. Вот из-за чего у нее было скорбное выражение лица.
— И детскую мечту…
Я тихо уплыву,
Лишь в дом проникнет полночь… —
пело радио.
«А я, дурак, со своими мелкими вопросами… — заерзал Волька. — Вот глупо получилось бы. Тут человека отец бросил, а я: «Инна, вы не знаете, как их на вилку нанизывают? И чем держат, когда они сползают со стола?» Бред какой-то! Бр-р…»
— А наша тетка не заблудится? — спросил Волька, чтобы хоть как-то отвлечь Инну от печальных мыслей и перевести разговор на другую, более спокойную тему.
— Это невозможно, — Инна серьезно поглядела на Вольку. Ее взгляд говорил: «Я понимаю, что ты переводишь разговор, чтобы… Но ведь это все равно не помогает».
Уже объявили отправление поезда, когда вернулась запыхавшаяся Анастасия Ивановна с полной авоськой лимонада. Поезд тихонько, словно пятясь на цыпочках из этого адского столпотворения, тронулся и поехал, распутывая на ходу хитросплетение железнодорожных путей. Влюбленные все еще смотрелись друг в друга. Она по прежнему откручивала пуговицу. Интересно, сколько их там еще осталось, неоторванных ниток? И на чем это все в мире держится? Неужели на нитках?
Едва поезд, петляя и изгибаясь, выбрался за город, в вагоне потемнело. Огромная, синюшнего цвета туча закрыла полнеба. И там, где эта туча смыкалась с землей и где было черным-черно, казалось, что шевелится какое-то огромное животное. Волька поежился и решил больше туда не смотреть. Вдруг, заглушая стук вагонных колес, ударил гром. Налетевший шквал взъерошил деревьям гордые чубы. И оторвал бы их, точно оторвал бы, если бы не стих внезапно.
— Ну, сейчас… — сказала Анастасия Ивановна.
Действительно, притихший было ветер с новой силой навалился на деревья, сгибая и теребя их ветви, выворачивая серебристую изнанку листвы. Метрах в десяти над землей, размахивая страницами, как крыльями, пролетела газета. От того, что она летела так высоко, и от того, что на синюшном фоне неба она казалась ослепительно белой, какой-то призрачной, Вольке стало не по себе. Он подумал, подумал — и пересел к Инне и Анастасии Ивановне. Несколько тяжелых капель упало на стекло и, оставляя за собой кривые чистые дорожки, соскользнуло вбок. И тут прорвало. Стена дождя обрушилась на землю. Удар был настолько плотным, что над травой поднялось небольшое облачко пыли. Правда, оно тут же растаяло, прибитое дождем.
Впереди тревожно прогудел электровоз. В купе посвежело. Вместе с брызгами в открытое окно хлынули запахи мокрой травы. То ли клевера, то ли кашки…
— Я включу свет? — спросил Волька.
Дождь закончился так же внезапно, как и начался. Тучи, обессилено урча, уползли на край неба. И опять засветило солнце.
Хорошо лежать на второй полке в вагоне скорого поезда, высунув локоть и немного лицо в открытое окно. Как сейчас Волька и Инна. Волька на одной полке, Инна на другой. Анастасия Ивановна, измученная жарой и Киевом, прикрыв лицо газетой, похрапывала на нижней полке, но днем это звучало не так ужасно.
Хорошо лежать, положив под бок подушку, на второй полке вагона скорого поезда и смотреть на ускользающий за горизонт пейзаж. И лениво размышлять о чем-нибудь важном, не сиюминутном. Как, например, сейчас Волька. «Для чего нужен дирижер? — думал Волька. — И зачем он машет? Можно ведь поставить какой-нибудь большой метроном… Для ритма. А ноты же у всех музыкантов есть. Достаточно им только играть без ошибок…»
— Он даже не пришел, — прервала вдруг Волькины размышления Инна.
Волька, не зная, как еще убедительнее выразить сочувствие покинутому ребенку, пошевелился и скорбно свел над переносицей брови.
— Может, его задержали на работе? — после некоторой паузы предположил он.
— Глупости. Какая еще работа. — Инна тяжело вздохнула. — Кто его допустит?
— Как это? — обиделся за Инниного отца Волька.
— Даже телеграммы принимают разносить только с шестнадцати лет, — скучно объяснила Инна. — Или с восемнадцати?
— Как это? — поразился Волька. — Он что, безработный? — Волька чуть не ляпнул «несовершеннолетний», но тут же прикусил язык. Несовершеннолетний отец — это вообще ни в какие ворота!
— Ну, ты все равно как моя мама… Причем тут… если мы влюблены со второго класса? И он, представляешь, не пришел на вокзал меня проводить. Представляешь? — объясняла Инна ситуацию Вольке, как объясняют маленьким, совсем маленьким детям. — Я, представляешь, специально пригласила Маринку, потому что она не верила… Она вообще в любовь не верит. А Зализина пришла. С биноклем. С таким вот… с военным. У папы выпросила. Едва. Мы с Зализиной на одной парте сидим. Она сцены расставания обожает. Представляешь? Анутдинова, и та пришла. Она вообще никуда не ходит, даже в зоопарк, вся по уши в своей математике. А он взял и не пришел. Представляешь? Они, как дуры, замаскировались с биноклем в телефонной будке. Там уже очередь к телефону озверела, а его все нет. Представляешь? Что теперь они обо мне подумают?