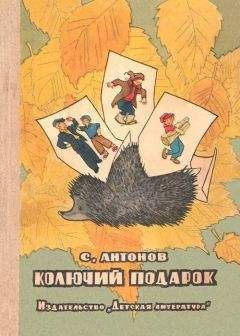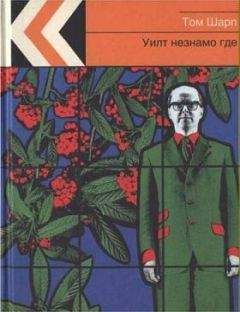Юрка отвечает.
— А-а! Так! Галя, «растрел» — два «с» или два «л»?
— Какой «расстрел»?
— Ну, слово «расстрел»?
— С двумя «с».
— Так, хорошо.
Дела идут блестяще. От каждого по словечку — и у Игоря грамотно написанное письмо. И никто не догадается, в чём дело.
— А «зародившийся»?
— Что «зародившийся»? — не понимает Галя.
— Ну, кружок!
— Кружок? А про что ты это пишешь? Зачем? Ребята! Игорь статью в газету пишет про наш драмкружок! Что он зародился, а потом распался!
— Да ничего я не пишу! — Игорёк прячет свой листок и убегает.
Больше спрашивать нельзя. Вот, может быть, только где-нибудь в сторонке, осторожно…
Звенит звонок, Игорёк идёт в класс, садится за парту и пробует подсчитать, сколько ещё осталось сомнительных мест. Много… А сколько их он не нашёл!
Кончается урок, и все бегут домой. Игорёк медленно идёт из школы, размахивая портфелем. Что же всё-таки делать? Признаться? Ведь дедушка такой добрый, он всё поймёт… Ну, придётся, конечно, дать обещание… А может быть, позвонить по телефону?
«Справочная? Скажите, пожалуйста, как пишется слово „провокационный“? Сколько в нём „а“ и „о“ и где они стоят?»
«Да вы что, товарищ? Мы адреса даём, а этому в школе учат…»
Нет, так не пойдёт…
Игорёк уже возле дома. Он стоит минуту, другую… Что же делать, надо идти…
Но дедушки нет дома! Игорёк радуется.
Нет дедушки и через час, и через два. Он появляется поздно и проходит к себе уставший и грустный. Игорька он не тревожит.
«Пронесло!»
На следующий день дедушка тоже не спрашивает о письме. Почти всё время он сидит у себя в комнате, но никто этого не замечает: каждый занят своим делом. Но Игорёк видит: не выходит… Что там, за этой неподвижной дверью?
— Дедушка! — крикнул Игорёк.
Не сразу открылась дверь, и в ней показался Павел Григорьевич. Он остановился в нерешительности, словно прислушиваясь.
— Дедушка! — повторил Игорёк.
Павел Григорьевич всмотрелся:
— А-а, ты здесь…
Он медленно дошёл до стола и, положив на него руку, опустился в кресло.
— Ты что, Игорёк?
Игорёк единым духом выпалил:
— Письмо переписал, но не совсем… Не совсем… Ты посмотри, а я, где неправильно, исправлю…
Павел Григорьевич вздохнул.
— Не можешь, значит? — спросил он тихо и добавил после тягостного для Игорька молчания: — Я бы прочёл и поправил, но тоже не могу.
— Почему, дедушка? Ты и не учился, а на заводе работал и в ссылке был, но пишешь лучше меня.
— Да, было… А сейчас не могу, Игорёк. С глазами у меня… Только ты молчи пока: отцу не говори, матери тоже… — С надеждой Павел Григорьевич вдруг спросил: — Ты в какой рубашке? — Он сощурил глаза и всмотрелся во внука. — В полосочку?
— Нет… — испуганно ответил Игорёк. — Нет, дедушка… В клеточку.
— Ну вот… — сказал Павел Григорьевич, вздохнув, и рука его упала со стола. — Вот…
Притихший Игорёк замер, боясь вздохнуть.
— Когда же это случилось с тобой? — спросил он наконец.
— Вчера, Игорёк… Газет не могу читать, предметы плохо различаю.
— А к доктору сходить! — вдруг воскликнул Игорёк.
— Нет, Игорёк, доктор не поможет. Был.
Игорёк бросился к дедушке и, обняв его, повторял, убеждая, как мог:
— В полосочку! В полосочку! В полосочку!
Павел Григорьевич усадил Игорька рядом с собой и сказал:
— Читай то, что тебя смущает, я скажу, как выправить.
— В полосочку, в полосочку! — повторял Игорёк, вытирая слёзы. — В полосочку!
В двенадцать ночи, когда Шурик ещё не ложился спать, вдруг во дворе громко залаяла Томка. И тотчас же взвизгнула, словно её ударили.
Шурик выскочил на террасу.
В темноте нельзя было различить даже сосен, окружавших дом. Шурик щёлкнул выключателем. Яркий и пронзительный свет ослепил глаза.
Томки в конуре не оказалось. Около неё валялся небольшой остроугольный камень; один край его был окровавлен. К голубятне на чердаке сарая приставлена лестница, до сих пор стоявшая в другом месте. Стало ясно, что воры пытались похитить голубей.
Шурик обошёл дом кругом. От террасы, где была конура Томки, к калитке вёл след из крупных капель крови. Мальчик пальцем дотронулся до одной из них и увидел песчинки, вместе с кровью прилипшие к пальцу.
Шурик вышел на дорогу. Фонарь был разбит. В темноте мальчик потрогал землю слева: она была сухая, справа песок прилипал к руке — значит, Томка, преследуя нарушителей, побежала на Канатчикову улицу, оставляя на песке кровяные следы.
Было по-осеннему прохладно и сыро. Шурик в одной рубашке часто вздрагивал от неприятного ощущения сырости и ускорял шаги, думая согреться быстрой ходьбой.
Не было видно ни одного человека, все словно попрятались, и только мальчик шёл в темноте по пустынной улице.
Тихо, точно весь посёлок вымер. Кое-где в домах горели огни. Иногда из хорошо освещённых комнат доносилась музыка. Но вот опять гавкнула и зарычала Томка. Можно было подумать, что она нагнала вора и бросилась на него. Шурик побежал в ту сторону, откуда донёсся лай.
На перекрёстке двух улиц горел фонарь, и мальчик увидел низенькую фигурку бегущего человека; штанина его была разорвана, длинный клок волочился по земле.
Томка, поджав заднюю лапу, не бежала, а скорее ковыляла за неудачным похитителем.
Это был Толька Куркин. Целыми днями шлялся он по улицам, ища развлечений и добычи. Жертвами его игр становились воробьи и галки, за которыми он охотился то с рогаткой, то с камнями; попадались фонари на малолюдных улицах — при случае бил и фонари… От нечего делать поганил заборы мерзкими надписями, вывинчивал лампочки, снимал рубашки, сушившиеся на верёвке без присмотра… Отнимал у более слабых мальчиков перочинные ножики, игрушки, которые он, подержав в руках, часто выбрасывал…
…Толька уже запыхался. Шурику слышно было, как он по-животному тяжело и в безотчётном страхе часто дышал, вернее — хрипел. Хрип прерывался судорогами рыдания, и тогда плач, похожий на взвизгивание, доносился до ушей мальчика. Это было противно.
Шурику стало жаль раненую Томку, которая не щадила самой себя. А главное — ненависть к вору и желание отомстить ему сменились отвращением и брезгливостью.
Но он всё ещё бежал. На перекрёстке Шурик оступился и попал в канаву. В правый ботинок его набралась вода, левая рука была в грязи. Шурик поднялся, снова побежал, но уже вяло и с какой-то неохотой. Хлюпала в ботинке вода, на руке, стягивая кожу, подсыхала грязь — неприятно. Но ещё более неприятно, противно было сознавать, что Толька Куркин, ученик пятого класса средней школы посёлка Ильинского, — вор, что его сейчас нужно будет то ли бить, то ли вести куда-то: так или иначе смотреть на него, дотрагиваться до его рук, которые представлялись Шурику почему-то липкими, потными, дрожащими…
Шурик читал о героях, стройках и сам хотел поехать то в Сибирь, то по Волго-Дону, посмотреть там все шлюзы, арки, водохранилища, стремился на полюс, в Антарктику…
А тут — вор с липкими руками!
И Шурик позвал:
— Томка, Томка, сюда!
Томка повернула к нему морду. Наконец Шурик догнал собаку и взял её на руки. Томка залаяла и завертелась в руках, стараясь вырваться и ринуться за вором.
— Томка, Томочка, — говорил Шурик, гладя Томку по грязной и мокрой голове. — Не надо, Томочка, не надо. Лапу береги.
Собака лаяла и по-прежнему вертелась в руках. А когда Шурик сильнее прижал её к себе, она попробовала укусить его руку.
Дома мальчик перевязал Томке лапу и устроил собаку в комнате около печки. Когда он посмотрел в её преданные глаза, он не увидел в них признательности. За хороший обед, за ласку Томка, виляя хвостом, всегда благодарила его таким взглядом, от которого у мальчика радостно сжималось сердце.
Несколько дней Шурик держал Томку дома. Вскоре лапа у неё зажила, и Шурик выпустил собаку на улицу. Томка с визгом, весело помахивая хвостом, бросилась бежать и, оглядываясь на Шурика, приглашала его, как всегда, принять участие в этой игре.
Пожелтевшая трава вокруг дома расцвела пёстрыми заплатами: то опали жёлтые, багряные и оранжевые листья с груш и яблонь, с берёз и клёнов.
Голые и тонкие сучья берёз печально свисали к земле. Два-три листка, удержавшиеся на ветках, тревожно трепыхались под стремительными порывами холодного и сырого ветра. И прутики берёз простирались в воздухе, неуверенно и нервно вздрагивая.
Осень наступила.
Томка все чаще забивалась в конуру. Оттуда торчали лишь морда да лапы. Казалось, что собака спала. Но она часто открывала глаза и часто встряхивала ушами: Томка настороже. По-прежнему по утрам на участке Смирновых тявкала маленькая смешная собачонка, по кличке Норка. И сейчас же, услышав её голос, отвечала Томка.