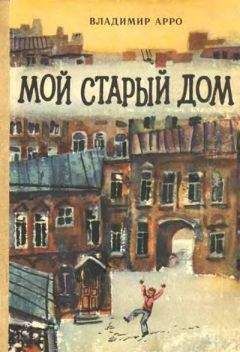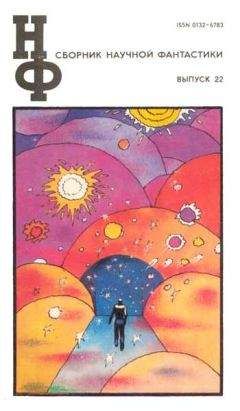— Не надо, Палён, не обижайся. Это само собой получилось. Я тебя, пока зуб не вылечишь, не брошу.
Куда ж его такого бросишь. Он пропадёт.
Возле нашей поликлиники стояло множество детских колясок. Ну, и колясок там было! Миллион! Всех цветов радуги!
Стоят как боевые кони, дожидаются своих всадников. Мне это очень понравилось. Я говорю Палёну:
— Ты иди, Палён, я тебя здесь подожду.
— Нет, нет, — отвечает Палён, — пойдём со мной!
— Да что я, — говорю, — пойду, я ведь теперь здесь не записан, мне неудобно.
— Еюнда какая, пойдём, пойдём!
Я понял, что без меня теперь Палён с места не сдвинется, и вошёл с ним в бокс.
Дежурная нянечка говорит:
— Куда это такие большие, сегодня у нас грудной день, приёма нет, приходите завтра!
Палён весь скривился, как это услышал.
Я говорю:
— Пропустите его к зубному, он до завтра не доживёт.
— А, к зубному можно. Если с острой болью, то можно.
Я подумал: конечно, зубной сегодня свободен, ведь у грудняков пока зубов нет, им лечить нечего.
В регистратуре было полным-полно грудных детей. Некоторые из них плакали, некоторые просто кричали. Такое веселье стояло! У них ведь так: один закричит — и все за ним в крик!
Пока Палён заказывал карточку, я подошёл к одному грудняку в голубом чепчике. Он сидел на столе за деревянным ограждением. Я сразу понял, почему он плачет: у него игрушка упала, гремящий такой петушок. Я её поднял, погремел, и грудняк замолчал. Потом он взмахнул ручонкой — игрушка снова упала. Он и зареветь не успел, как я её поднял. Потом он снова её уронил. Они же, ребёныши, глупенькие, не соображают. Когда я в третий раз поднял игрушку, грудняк уже улыбался. Он подумал, что я с ним играю.
А я бы и в самом деле поиграл. Я бы с ним целый день забавлялся. Что там — котёнок или собачка, я от них уйти могу спокойно, а от ребёныша бы не ушёл. Я бы к нему отовсюду — бегом! Я бы ему цветочки носил, травинки, камешки, палочки, тряпочки, бумажки! Да я бы и школу, пожалуй, бросил. Я бы его на ноги поставил, тогда бы и в школу пошёл. Его — в детский сад, сам — в школу. Сам из школы — его из детского сада. Он бы у меня не только не плакал, а всё время бы хохотал.
Но тут прибежала его мама. Она мне улыбнулась, и я отошёл.
Это мальчик, я думаю, раз в голубом чепчике. Девочка была бы в розовом.
Палён тем временем карточку заказал, и мы с ним пошли по лестнице, мимо цветов, к кабинету. У нас в поликлинике цветов больше, чем в других поликлиниках города. Наша поликлиника по цветам и по другим показателям на первом месте. У неё и переходящее знамя. Оно стоит на втором этаже, тоже всё в цветах. Матери эти цветы понемногу щиплют: кто листок, кто отросток. А некоторые и до корня докапываются. Осенью ведь всегда цветы пересаживают.
Вот стоят матери на лестнице, как в оранжерее, и советуются.
— Листочек этот, — говорит одна, — опустите в воду, пусть он поплавает недельку, а когда корешки даст, то высаживайте в горшок.
— А вы в терапевтическом были? — спрашивает другая. — Там такой хороший хирург!
— Да нет, что вы, хирург сегодня принимает в пятнадцатом кабинете.
— Да нет, вы меня не поняли. Хирург — это тоже такое растение. Чудесно заживляет ссадины, порезы.
— Подите лучше в процедурную, там такая замечательная «кровь Наполеона»! Просто прелесть!
— А «тёщиного языка» не видели, у них нет?
Одна мамаша бегает как угорелая с ребёнком на руках и выкрикивает:
— Мне вьющие, вьющие! Мне нужны вьющие!..
Я как крикну на всю лестницу:
—…ся!
— Что «ся»?
Я говорю:
— Вьющиеся!
Она кричит:
— А тебе какое дело!
Прямо все с ума посходили с этими цветами.
Я подумал, чем бы мне ещё занять Палёна, чтобы ему ждать было не так томительно. Я спросил:
— Ну, как там дела, какие новости в школе?
А он отвечает:
— Всё ноймайно. Тебя из танцевального кйужка вычейкнули.
Ну вот, уже и оттуда вычеркнули. А я ещё ни одного танца не станцевал. Всё только думал: хорошо бы научиться танцевать лезгинку. Я вообще-то хотел в фотографический, мне как раз батя летом фотоаппарат подарил, но Августа Николаевна говорит: туда и так записалось много народу, а нам в танцевальный мальчиков не хватает. А туда как раз Поля записалась. Она лучше всех «верёвочку» делает. А вот, думаю, научусь лучше всех вприсядку! И будем мы с ней плясать вдвоём: я — вприсядку, она — «верёвочку».
Когда Палёна пригласили в кабинет, я остался один. Никого не было во всём коридоре. Мне стало ещё обидней, что я здесь не записан. Пока Палён сидел рядом, я ещё вроде был свой, а теперь и вовсе оказался чужой.
А тут ещё подошла девочка с мамашей. Мамаша так морщилась, что я даже подумал, что это у неё болят зубы, а не у девочки.
Она спросила:
— Ты здесь последний?
Мне не хотелось отвечать, что я здесь никакой, и я ответил, что да, я здесь последний.
Я отвернулся, а мамаша спросила:
— А с острой болью или с тупой?
Я говорю:
— С тупой.
— Ну вот, а мы с острой.
Даже с некоторой гордостью сказала. «Ну, — думаю, — и пусть сидят со своей острой, не буду с ними спорить».
Встал и пошёл по коридору. А тут как раз цветные диапозитивы висят, как за грудняками ухаживать. Как кормить, пеленать, купать. Я включил свет и стал смотреть.
Замечательные диапозитивы. Я смотрел-смотрел, а потом подумал: дай-ка проверю, записан я здесь или не записан. Может быть, меня ещё не вычеркнули?
Побежал вниз в регистратуру.
Регистраторша как крутанёт свой барабан. И вдруг вытаскивает мою карточку. Ну, этого я никак не ожидал! Я от радости чуть не задохнулся.
— Скачков, к какому врачу?
— К зубному, — кричу, — к зубному!
— А ты что так кричишь? Ты что, с острой болью?
Я говорю:
— Конечно с острой, а с какой же!
Далась им эта острая боль. Она недоверчиво посмотрела на меня и, наверное, подумала: почему же он такой радостный? А я такой радостный оттого, что здесь записан! Значит, не успели ещё вычеркнуть, не успели!
Регистраторша говорит:
— Двадцатый кабинет, на втором этаже.
И даёт мне номерок.
Прибегаю — Палён сидит уже в коридоре. Обеими руками за щёку держится.
— Ой, йвать будут, укой сдеяи, куда ты пйопай?
Палён уже теперь не только букву «р», но и букву «л» не выговаривает, и многие другие буквы. Ещё немного — и совсем говорить разучится.
Я говорю:
— Палён, меня, оказывается, ещё не выписали! Иду зубы лечить! У меня всё равно дупло есть, так уж лучше в своей поликлинике вылечить, верно? У нас там пока поликлинику найдёшь, руки-ноги поломаешь, одни пустыри кругом.
Палён схватил меня за руку, чтобы я, значит, не передумал, и говорит:
— Вот дьюг так дьюг!
Не всегда и разберёшь, что он сказать хочет.
Я спрашиваю:
— Что, Палён?
— Ты, говою, хоёший дьюг! Вместе не так стьяшно.
— Стьяшно, стьяшно. Язьве, — говорю, — это стьяшно?
Это уж я нарочно его дразнил, а он и не заметил. Долдонит своё:
— Вот дьюг так дьюг!..
И вот я в кресле. Врачиха говорит:
— Спокойно, деточка!
И вот я как дёрнусь! Нашла, значит, себе работу.
А врачиха:
— Терпеть, милый, терпеть!
Сижу с открытой пастью, весь взмокший и ни о чём не могу подумать. А сам хочу о чём-то подумать, о чём-то хочу, да не могу вспомнить — о чём. Наконец вспомнил: не выписали меня отсюда, не выписали!
Палёну зуб вытащили, а мне велели завтра прийти. Отчего ж не прийти, я приду в любое время!
Палён буквы-то все стал выговаривать, а что толку? У него укол стал отходить, он от этого кислый, сморщенный.
Я говорю:
— Палён, вот свинство какое, Тентелев лодку угнал, а на меня свалил; хоть он мне и враг, но разве так можно?
Палён говорит:
— Вот наказанье какое!..
Я говорю:
— Разве это не подлость, Палён? Если я переехал, значит, теперь на меня всё можно сваливать?
— Ох, болит, — говорит Палён. — Может, мне не тот вырвали? Пойду в зеркало посмотрю и лягу…
И пошёл домой. Больной, чего с него возьмёшь.
А у меня хоть и побаливает зуб под временной пломбой, а я всё равно бодрый, весёлый! Вот у нас какая красивая улица! Дома на ней все разные, со всякими амурчиками на верхних этажах, со всякими львами, орлами и змеями. На одном доме над каждым окном человеческая голова: тётя, дядя, тётя, дядя… Однажды мы проснулись, вышли на улицу, смотрим, а все тёти и дяди курят. Ну, не по-настоящему, конечно, курят, а просто у них во рту папироски. Это кто-то им ночью вложил. Безобразие какое. Просто хулиганство. Но очень смешно.
Возле нашего дома четыре тополя растут, толстые, высокие, верхушками достают до пятых этажей. Когда летом от них летит пух, то вся улица белая. Возле тротуаров накапливаются сугробы. Прохожие идут и пушинки выплёвывают. Кошки все ходят с белыми мордами.