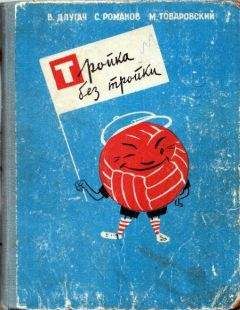Вскоре мама совсем перестала говорить со мной по-русски, а перешла на немецкий и французский. Один день мы говорили на немецком, другой — на французском. По-русски — только с няней. Няня не обижалась, только изредка крестила нас и шептала: «Сохрани вас Господь».
Мама стала спать в моей комнате. Мы научились спать вдвоём на одной кровати, «валетиком», чтобы не мешать друг другу. Это тоже была интересная игра. Ведь квартира большая, и совсем не обязательно спать вдвоём на самой узкой и самой жёсткой кровати. Но мы играли, что мы декабристки, мы приехали в Сибирь, на рудники, а там нет мягких постелей.
Так прошёл целый год.
Весной тридцать седьмого года няня на всё лето увезла меня к себе в деревню. Мне сказали, что если маме придётся надолго уехать работать куда-то очень далеко, то я поживу у няни в Дубёнках. Я не возражала.
Но в начале июня мама приехала за мной — мы с ней должны были срочно отправиться из Москвы далеко-далеко, в Среднюю Азию, и билеты уже были куплены. Няня твёрдо сказала: «В Москву вместе поедем. Помогу собраться и провожу. Я знаю, что нужно взять с собой. У нас из деревни в двадцать девятом многие уехали не по своей воле. Выжили те, кто правильно собрался».
Дни перед отъездом были заполнены до предела. Няня купила много столовой клеёнки на тканевой основе. Из неё сшили мешок, в котором я легко помещалась. Мама отказалась от такого же мешка для себя. Тогда няня сшила ещё и большой квадрат из клеёнки, такой, что мы обе могли лежать на ней и ею же накрываться.
Няня доказывала маме, что взять это всё совершенно необходимо: клеёнка спасёт нас от сырости, а если что — её легко будет продать или обменять. Вещей должно быть столько, чтобы их можно было легко нести. Поэтому в чемодане, который будет с нами в вагоне, должно быть только самое необходимое. Остальные вещи нужно сдать в багаж; потом в любом месте по багажной квитанции их можно будет переадресовать, когда станет известно точное место нашей ссылки.
Незадолго до этого у мамы в НКВД[3] отобрали паспорт и дали на руки бумажку, по которой «поименованные ниже» мама и я в трёхдневный срок «высылаются из Москвы в Киргизскую ССР в город Токмак-Каганович Калининского района». Маму предупредили, что к концу третьих суток за нами придут, опечатают квартиру, а нас отправят по этапу к месту ссылки. Мама попросила разрешения уехать одной, оставив меня в деревне. Но этого делать не разрешили, так как по приказу высылали обеих.
Мама сказала, что за трое суток не успеет съездить и привезти меня, и просила отсрочить дату выезда. Официально этого тоже нельзя было сделать, но офицер, ведший мамино дело, посоветовал:
— Купите на свои деньги в кассе предварительной продажи билет к месту ссылки, таким образом дата отъезда отодвинется на две недели. За дочерью пока не ездите. Билет предъявите, когда за вами придут. При наличии билета вам разрешат отодвинуть срок выезда. Ну, и государству экономия — не нужно тратиться на вашу перевозку.
Так и получилось.
Для мамы это был удобный повод избежать отправки по этапу, то есть в тюремных вагонах. Билет был взят до города Фрунзе[4], чтобы там решили, куда нас направить дальше, потому что выяснилось, что город Токмак находился в одном месте, Калининское — в другом, а города Каганович тогда ещё не было вовсе.
Так летом 1937 года мы с мамой отбыли в ссылку.
Один большой чемодан мы сдали в багаж, а второй, поменьше, взяли в купе. Ехали в мягком вагоне, со всеми возможными удобствами, — и в этом был весь мамин характер.
Пожалуй, в этом поезде Москва — Фрунзе и кончилось моё обыкновенное детство. Начиналась какая-то совсем другая игра.
Приехав во Фрунзе, мы пошли получать назначение к месту ссылки. Войдя в большое здание, мама оставила меня с чемоданом в вестибюле и зашла в какую-то дверь. Вернулась довольно быстро, бледная. Выглядела она необычно: голова высоко вскинута, глаза прищурены, а плотно сжатые губы кривит брезгливая, презрительная усмешка.
Опустившись на лавку рядом, взъерошила мне волосы и, глубоко вздохнув, тихо и очень властно сказала:
— Сейчас за нами придут. Будет противно и страшно. Молчи, не плачь, не бойся и не задавай никаких вопросов. — И, улыбнувшись мне, спросила: — Жив-жив, курилка?
— Жив-жив! — ответила я и невольно распрямила плечи, вздёрнув подбородок.
К нам подходили двое военных.
— Конвой, — тихо шепнула мама, — помни, что я сказала.
— Быстро, пошли, — раздалось рядом. Мама подхватила чемодан, взяла меня за руку, и мы вышли.
— Быстрей, быстрей! — покрикивали солдаты.
Мама не умела бегать. В детстве она перенесла костный туберкулёз, и теперь левая нога её была короче правой и тазобедренный сустав не сгибался. В ортопедической обуви хромота была мало заметна, но бежать она не могла. Ругаясь, конвоир схватил меня за руку и бегом поволок за собой. И мама, нелепо подпрыгивая, побежала.
Я изо всех сил старалась не заплакать, ноги у меня заплетались, и, падая, я повисала на этой проклятой руке. Рука дёргала меня вверх, и я бежала снова. Вдруг что-то случилось — стало горячо внутри и легко: «Придёт время, и я откушу эту ненавистную руку». И больше я ни разу не споткнулась.
Нас запихнули на станции в вонючий товарный вагон, загруженный мешками и ящиками, закрыли и заперли дверь, и поезд пошёл. Никого больше в вагоне не оказалось.
Мама посадила меня на ящик, устроилась рядом, прижав к себе. Меня била крупная дрожь.
— Ну, поехали, — и мама тихонько запела мне весёлую французскую песенку. А потом мы пели вместе песню про разбойников.
Носилки не простые —
Из ружей сложены,
А поперёк стальные
Мечи положены,
— пела я, представляя стальной меч в своих руках.
Ярость — мощное чувство, помогающее выстоять.
Ехали несколько часов, потом нас, ящики и мешки перегрузили в крытую машину и повезли дальше.
— Мама, почему? — прошептала я.
— Сначала я ответила начальнику во Фрунзе так, как считала нужным, а потом задала ему лишние вопросы. Никогда и никому не задавай вопросов. Здесь вопрос может стоить жизни. Спрашивай только у меня, когда никто не слышит.
Я запомнила.
Нас привезли в ещё не действующий, строящийся лагерь, где собрали жён и детей «врагов народа». Были, как и положено, колючая проволока, вышки, часовые на них.
На территории — ряды строящихся бараков и несколько готовых, пустых. В них не живут — это рабочая зона.
Жилая зона — что-то вроде очень длинного сплетённого из прутьев сарая без одной стены. Сооружение напоминало букву «П» с очень длинной перекладиной, обращённую открытой стороной к вышкам с часовыми. Внутри этого загона с крышей и размещались люди вроде нас — женщины и дети.
Это печальное место в долине было укрыто от посторонних глаз естественными преградами. С юга долину прикрывали отроги Киргизского хребта, а с севера плавным полукругом охватывали лагерь семь древних курганов, одинаковые по высоте, длине и расстоянию между собой. Так что из степи, где были дороги и сёла, виднелись только курганы, а за ними — горы.
Нас привезли последними, и все места — под навесом в углах и у стен, где теплее, — были заняты. Вдоль всего плетня на чемоданах и узлах сидели человек тридцать детей. Дети молчали, опустив глаза; казалось, они боялись даже дышать.
Мы разместились в середине, на юру, открытом всем ветрам.
— Неплохая гостиница, могло быть хуже, и вид отсюда прелестный. Как вы считаете, мадемуазель? — улыбнулась мне мама. — В котором часу здесь подают ужин? — осведомилась мама у молоденького конвоира.
Тот оторопело глядел на улыбающуюся маму.
— Услышите било — идите к конторе, посуду берите свою, — и пошёл.
— Мне нужна лопата, — бросила мама ему вслед.
Вскоре совершенно обалдевший паренёк вернулся с лопатой.
— Не положено, — пробормотал он, протягивая маме инструмент.
— Ну и правильно, — согласилась мама, — я только размечу, а ты копай. — И быстро очертила большой прямоугольник. — Копай на три штыка.
— Могилу? — ахнул солдатик.
— Вот чудак, — рассмеялась мама. — Погляди: к утру с гор подует холодный ветер, а напротив нашего места — щель между курганами. На таком сквозняке ребёнок простудится насмерть; нужно закопаться в землю — ветер пройдёт над нами.
— Женщина, — с уважением в голосе протянул парень, — а бабы только воют. Меня-то и послали, чтоб никуда не бёгла и не голосила, все вы так по первости. — И, взяв лопату, начал вырезать куски дёрна.
Видимо, ещё недавно здесь была густая трава, но теперь сверху всё было вытоптано, а корни остались. Он резал и выкидывал куски, а мы плотно укладывали их в два ряда по краям. Чем выше получится борт, тем меньше копать в глубину, объяснила мне мама.