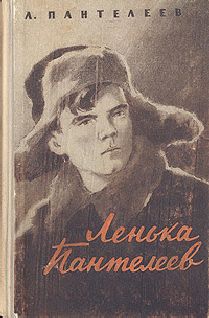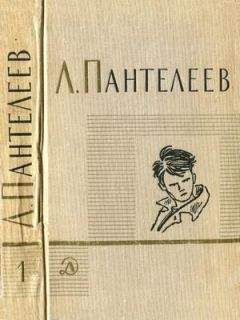и они пошли.
Я видел, как Васька еле держится на ногах, но я знал, какой он непокорный — скорее умрёт, чем покажет, что ему тяжело. Сердце моё ныло от жалости к Ваське. Чем же ему помочь? Закричать? Кинуть в брюхатого камнем?
Васька закончил поливать и, шатаясь, с малиновым от жары лицом, поплёлся к ведру с водой. Молча он выпил подряд шесть кружек тёплой, смешанной с каплями пота воды и тогда только подошёл ко мне.
— Тяжело, Вась? — спросил я, отирая рукавом рубахи пот с его лица.
— Что сделаешь, — хрипло ответил он, — надо же мамку кормить. Она и так больная.
Всё-таки Васька не выдержал и убежал с завода. Случилось это в понедельник. Я принёс ему на коксовые печи обед — бутылку чаю и кусок хлеба.
Не успел он поесть, как зазвенел звонок — стали выдавать кокс. Васька подхватил ненавистную брезентовую кишку и стал поливать.
Зашипело, затрещало вокруг. Удушающий огненный пар совершенно скрыл Ваську, и я не заметил, как и когда он упал. Я видел только, что толстобрюхий мастер коксовых печей взмахнул руками и заорал:
— Шкоро, своличь!
Он спрыгнул на площадку, где находился Васька, и продолжал вопить:
— Лей!
Когда горячий пар рассеялся, я увидел Ваську лежащим на железных плитах. Вода, пофыркивая, выливалась из кишки. Англичанин схватил Ваську за шиворот и поставил на ноги.
— Своличь, лей! — визжал он.
Васька стоял пошатываясь. Из носа у него текла по губам кровь. Он смотрел на мастера какими-то пустыми глазами, будто не видел его. Но, когда тот схватил его за грудь, и встряхнул, Васька вырвался, подхватил кишку и направил струю воды прямо в усатое лицо. Мастер вскинул руки, хотел позвать на помощь, но захлебнулся и грохнулся мягким задом на железные плиты.
Закрываясь от бьющей струи руками, он что-то кричал, но Васька поливал и поливал его, сбил с него кожаный картуз, намочил жилетку с золотой цепочкой на брюхе. Отовсюду стали сбегаться мастера — англичане и бельгийцы. Васька отбросил шланг и помчался вдоль коксовых батарей, вскарабкался на гору железного лома и скрылся за ней.
Мы встретились с Васькой у проходных ворот. Он сорвал пыльный лист лопуха и вытер им кровь на губах. С ненавистью глядя туда, где курился над печами жёлтый дым, он сказал:
— Так ему и надо, толстопузому. Идём, Лёнь, нехай они пропадут со своим коксом.
В неглубокой балке мы присели отдохнуть. Я показал Ваське новые фантики от конфет, потом достал из-за пазухи верёвку и предложил поиграть в коня и кучера. Я запрягся конём и начал брыкаться, но Васька не взял вожжи.
— Не надо, — сказал он, — ни к чему это.
Мы поднялись и пошли домой.
Васька думал, что Юз оштрафует его и что дома ему влетит от отца. Но всё обошлось.
Мы опять играли вместе, строили на огороде шалаш из бурьяна, копали шахту. Только Вася стал совсем другим. Испортили его на заводе. Он сделался задумчивым. Лежит и лежит с открытыми глазами. Окликнешь, а он молчит. Про отца, что ли, думает…
Однажды Анисим Иванович позвал Васю и, не глядя на него, сказал:
— Определил тебя, сынок, в шахту! Не хотелось губить твои малые годы, но такая уж наша судьба — тяни лямку, пока не выроют ямку.
Тётя Матрёна заголосила:
— Посылаем дитё в прорву!
— Замолчи! — крикнул на неё Анисим Иванович. — Не тяни за душу, и так тяжко.
На другой день утром тётя Матрёна повела Ваську на Пастуховский рудник.
Я продолжал ходить на работу к отцу, но теперь ничто не занимало меня там. Всё чаще взбирался я на крышу нашего домика и с грустью смотрел в далёкую степь, где виднелся Пастуховский рудник. Чем дольше я смотрел, тем сильнее хотелось туда и тем боязнее становилось на душе. Я никогда не уходил дальше речки, а ведь там, за горизонтом, конец земли. Вон куда угнали Васю, на самый конец света.
Долго я мучился и наконец не выдержал. Улучив минуту, когда мать ушла, я втихомолку сунул за пазуху ломоть хлеба, захватил на всякий случай две сырые картошки и подался на рудник. Для смелости я кликнул Полкана, но он проводил меня только до речки. «Полкан, Полкан!» — кричал я, но он сел на берегу, уставился на меня грустными глазами и сидел, виновато помахивая хвостом. Я поплёлся один.
Идти было версты три. В степи уже увяла трава, почернела полынь, лишь торчали кое-где высокие будяки с грязными, как тряпки, листьями да катились под порывами ветра сухие шары перекати-поля.
Страшно было идти одному. Раскинулась передо мной печальная степь с одинокими, как могилы, терриконами шахт. Куда ни глянь — пусто, безлюдно, тихо. Наверное, один бог наблюдал с неба, как я чмокал опорками по раскисшей грязи.
За Богодуховской балкой начался Пастуховский рудник. Посёлок был чёрный от угольной пыли.
Здесь, как и у нас, заборы были низкие, сложенные из дикого камня — песчаника, даже крыши землянок были покрыты тонкими каменными плитами. Улочки все узкие, шага три-четыре, переплюнуть — пустяковое дело, старые землянки, повалившиеся то в одну, то в другую сторону.
Едва я вошёл в первую улочку, как рыжая цепная собака вскочила на крышу землянки и облаяла меня, потом спрыгнула на землю и продолжала хрипло брехать, гремя толстой цепью.
Невдалеке, пугая страшным видом, стояла шахта «Италия». Над воротами на железной сетке виднелись крупные буквы: «Угольные копи. Шульц Апшероден фон Графф».
Дул пронизывающий ветер. Я шагал по незнакомым улочкам, мимо кабака, потом трактира. На одной вывеске был нарисован огромный красный рак с вытаращенными глазами, державший в клешне кружку с пивом.
Под забором кабака, среди сваленных пивных бочек, я увидел группу оборванных рудничных ребят. Двое играли в карты, а остальные тоскливо пели сиплыми голосами:
Вот мчится лошадь по продольной,
По узкой, тёмной и сырой,
А молодого коногона
Несут с разбитой головой.
В кабаке дрожали стёкла не то от пляски, не то кто-то дрался. Ребятишки не обращали на грохот никакого внимания и продолжали протяжно петь:
Двенадцать раз сигнал пробило,
И клетка в гору понеслась,
Подняли тело коногона,
И мать слезою залилась…
Меня поразила худенькая девочка лет семи, с бледным лицом и с медным крестиком на шее. Она сидела, зябко поджав под себя босые ноги, и пела:
Я был отважным коногоном,