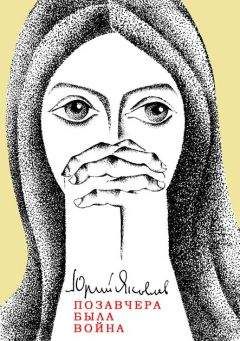Колонна загудела:
— Давай, давай, не задерживай!
— Одолжи ты ему слона!
— А чего его спрашивать? Запрягай. Закинь ему веревку на шею.
Орлов снял с плеча винтовку. Патроны лежали у него в кармане, но винтовку он взял наизготовку.
— Это что ж, в своих стрелять будешь? Ты что, немец? Отвечай, ты немец?
— Что у тебя в телеге? — тихо спросил Орлов.
— Скарб.
— Брось свой скарб и шагай как все.
— Не брошу! Я свое не брошу. Не ты наживал, и не командуй.
— Если тебе барахло дороже жизни, — спокойно произнес Орлов, — оставайся с ним. А слона я тебе не дам. Слон государственный.
— Будь ты проклят! — крикнул мужик и захлебнулся злобой.
Он так и остался на дороге со своей телегой.
Слон шел дальше, оставляя на пыльной дороге большие круглые следы. Он не оглядывался и не видел, как его следы тут же исчезали, их смывала волна двигающихся подошв, шин, копыт, ободов. Шел, слегка покачивая головой, и у него в ногах поднималось душное облако пыли.
Люди привыкли к Максиму. Отрываясь от своих мыслей, искали его глазами, как ищут необходимый ориентир. Он создавал равновесие, успокаивал и незаметно как бы стал вожаком потока.
И когда под вечер, потемнев от пыли, усталости, отрывисто дыша, слон остановился, поджав сбитую переднюю левую ногу, поток замер. Пора было сделать привал, расположиться на ночь. По обеим сторонам дороги раскинулось пшеничное поле.
Оно колыхалось на легком ветру, поворачивая из стороны в сторону пожелтевшие глазастые колоски. Каждый колосок ощетинивался тонкими штыками, защищая еще мягкие, незрелые зерна. Зерна были похожи на капельки загустевшего молока, и вкус у них был тоже молочный. Над пшеничным полем звучал непроходящий шепот. Так разговаривает мать, чтобы не разбудить спящее дитя. И во всем этом щедром, широком разливе было что-то спокойное, живое, материнское.
Беженцы стояли на дороге, не решаясь сделать первый шаг в поле. Они боялись смять стебли и колоски — были приучены к этому с детства, как были приучены не бросать на пол хлеб… Они не думали о том, что завтра это поле растопчут и перепашут фашистские танки и родное дыхание поля исчезнет в жарком чаду…
Но потом они решились…
Они входили в поле, как в море. Медленно, опасливо, раздвигая руками пшеничные волны, стараясь не мять их.
Пройдет еще немного военного времени, и сердца людей почерствеют, как черствеет хлеб. Но черствый хлеб не перестает быть хлебом. Даже самый черствый хлеб не превращается в камень. Пройдет время… Но оно еще не прошло. И глаза людей были влажными. Они жалели поле. Они понимали, что это поле — их жизнь. Их хлебушек. И если есть на свете бог, дарующий и отнимающий жизнь, то его зовут Хлебушек. И старухи, крестясь, осеняя себя крестным знамением, шептали не имя Христа, а имя хлеба:
— Хлебушек… Хлебушек…
А золотистые стебли шуршали под ногами, и поднимались, и снова падали.
Маленькая девочка, полдороги проспавшая у матери на руках, проснулась и, моргая заспанными глазами, бегала по полю, собирала васильки. И радовалась. Пшеничное море подбрасывало ее на волнах.
Последними в пшеницу вошли слон и Орлов, серый от усталости и горя.
В начале войны люди редко думают о будущем. Оно далеко и туманно. И, кроме того, не так много шансов, что оно вообще будет: пуля и снаряд слишком часто обрывают жизнь и вместе с ней и будущее. Охотнее думают о прошлом. Оно как будто и есть будущее, если удастся остаться в живых. Обыкновенные мирные дни представляются счастливыми и желанными. О чем же еще мечтать, как не об их возвращении?
Лежа на мягкой пшеничной соломе, Орлов мечтал о прошлом. Он вспомнил, как в его город приехал цирк. Он никогда не ходил в цирк — не любил. И попал туда совершенно случайно. Хлынул проливной дождь. Негде было укрыться, а рядом возвышался шатер цирка «Шапито». Дождь звонко бил по натянутой парусине. Люди бежали к шатру на спектакль. Орлов побежал тоже. И в конце концов очутился внутри, чтобы переждать дождь в цирке.
Мокрый пиджак прилипал к лопаткам. И Орлов все время поводил плечами, чтобы отклеить его. Пиджак не отклеивался. Орлов смотрел на арену, а думал о приклеившемся пиджаке. И какой-то человек раздраженно кричал ему в ухо:
— Да перестаньте вертеться!
Он перестал вертеться и стал подумывать о том, как бы выбраться из этого балагана. В цирке было жарко, от промокшей одежды шел душный пар.
Сквозь веселые голоса труб Орлов старался расслышать, не кончился ли дождь. Но звонкие заклепки били по парусине, и их не мог заглушить даже цирковой оркестр.
А потом на арене появилась Зинаида Штерн со слоном. И все кончилось. Все кончилось и началось заново. Но первое время он не обращал внимания на Зину, а следил за выступлением слона. Ему сперва понравился слон.
Чего только не делал слон! Он переваливался с боку на бок, как мальчишка, катящийся с зеленой горки. Потом он ходил на задних ногах, потом на передних ногах. Потом он подхватил свою дрессировщицу, обвил ее хоботом и посадил к себе на спину… Дрессировщица Зинаида Штерн была хрупкой девушкой с черной мальчишеской челкой, с лицом, широким в скулах. У нее были большие синие глаза.
Орлов спал, как спят после болезни: глубоким, непробудным сном. Вероятно, такой сон — разновидность летаргического. Короткий летаргический сон… Орлова можно было толкать, обливать холодной водой, он бы не проснулся.
Он спал и видел во сне свою жизнь с такими подробностями, как будто он не спал, а заново переживал пережитое.
Но самое удивительное было, когда он проснулся.
Уже рассвело. И беженцы не спали. Они сидели на пшеничном поле кругами, а те, кто был в самых крайних кругах, стояли. Они образовали ряды амфитеатра. И в середине — круглая пшеничная арена. И на этой арене выступал слон.
Он шел на задних лапах и покачивал хоботом, и каждый его шаг сопровождался хлопками. Хлопали в ладоши дети, хлопали взрослые, хлопали старики и старухи. Орлов сразу очутился в знакомом цирке «Шапито». Будто ничего не произошло, просто подул сильный ветер и сорвал парусиновый шатер. И представление продолжается без шатра, под открытым небом.
И вот слон уже идет на передних ногах. Ему трудно сбалансировать свое тяжелое тело. Но он идет, вдавливая в землю глазастые колоски пшеницы. И люди затаив дыхание следят за каждым его шагом.
Орлов смотрел на беженцев и не узнавал их лиц. Куда девалась усталость, озабоченность и тревога! Глаза светились, и спокойные улыбки расплывались безмятежно, по-детски радостно.
Может быть, никакой войны нет? Люди едут на ярмарку или на праздник или просто переезжают на другое место. И Зина жива. Ее просто не видно! Но где-то рядом она командует слону:
— Алле! Ап! Алле… Ап…
И он делает все по ее воле.
Слон принялся танцевать. Он тяжело кружился слева направо. Он утрамбовал круглую площадку. Ровную такую, как манеж. И желтая, перемолотая его ногами солома превратилась в манежные опилки.
Люди хлопали, смеялись, нахваливали слона… Только шатер унесло ветром… Нет, шатра не было, потому что директор накануне сжег его. Облил керосином и поджег…
Начался новый день пути. Сухой паек Максима подходил к концу. Отрубей оставалось на два приема, и Орлов с тревогой думал, чем он будет кормить Максима, когда отруби кончатся.
То, что произошло на рассвете, еще больше привязало Орлова к большому добронравному зверю. Почему Максим устроил представление? Может быть, принял сидящих вокруг людей за зрителей и повторил то, что привык делать в цирке? Или он понимал людское горе и решил облегчить его тем, на что был способен? Или же к его сердцу подступила тоска по Зине и утреннее представление было его отчаянным зовом?
Орлов шагал по бесконечной дороге, слышал над ухом тяжелое дыхание слона и, когда поднимал голову, видел большое сосредоточенное око.
Слон устал. Он привык к мягким опилкам манежа, а здесь под ногами булыги и засохшая корка глины. Сбита передняя левая, и ее нельзя подковать… нельзя поставить набойку… А вдруг Максим не сможет идти дальше и остановится?
Жарко. Душно. И ноги гудят, как телеграфный столб, если прижаться к нему ухом. Но все идут. И длинные подолы пыльных старушечьих юбок колышутся над дорогой, как черные волны. Эти старухи обладают точным чутьем на опасность. Еще не успели запылать их дома, а они ударили в набат. Они забыли про свои годы, перестали чувствовать хвори, поднялись, бросили дом, скарб, нажитый годами, и двинулись в путь, полный опасностей и неизвестности… Они были вещими…
К полудню колонну чаще стали обгонять машины. Они мчались на восток, бесцеремонно оттесняя беженцев к обочине и обдавая их удушливой пылью. Люди привыкли дышать пылью и не отворачивались. Но грохочущие машины оставляли у них щемящее чувство отставших от поезда.