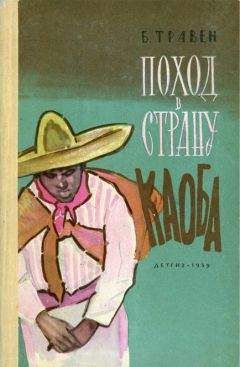— А ты сказал этим собакам, что ты прочел по линиям их руки? — наивно спросил Андреу.
— Да ты, видно, одурел от жары! Как это тебе взбрело в голову! — возмутился Селсо.
— А может, все-таки лучше сказать — пусть остерегаются в пути: тогда на тебя не ляжет вина, если с ними что приключится.
Селсо, прищурившись, посмотрел на Андреу. Он не понимал, говорит ли тот серьезно или шутит.
— Так ты и вправду считаешь, что я должен предупредить этих негодяев о том, что их ожидает? — спросил Селсо.
— Да, мне так кажется, — в раздумье проговорил Андреу, — они ведь все же христиане, а не язычники.
По тону Андреу Селсо понял, что друг его и в самом деле думает то, что говорит.
— Христиане? Мразь они, а не христиане! — сказал Селсо таким тоном, словно злая судьба обоих капатасов уже свершилась. — Христиане? Быть может. Но тогда я не хочу быть христианином. Уж лучше пусть я буду язычником или кем угодно, но только не тем, что они. Я должен их предупредить? Нет уж! Могли погадать у какой-нибудь старухи на празднике в Хукуцине — она бы за два реала предсказала им их судьбу. Это вовсе не мое дело. Зато мое дело — проследить, чтобы предсказание сбылось. Если хочешь, чтобы судьба была к тебе милостива, ты должен с ней заигрывать. Только плохой прорицатель не наступает судьбе время от времени на пятки. И вот что я тебе еще скажу, Андреу: если ты хоть словом обмолвишься о моем провидении этим двум стервецам-капатасам или намекнешь кому-нибудь, ну, хотя бы твоему толстому другу Сантьяго, я так набью тебе морду, что у тебя все зубы вылетят! Так что имей в виду: знай да помалкивай. А когда все свершится, тоже никому не болтай о том, что я умею предсказывать судьбу… Ну вот, слышишь — сигнал к подъему. Да вон идут капатасы. Что ж, в путь, Андреу!..
Команда собиралась быстро. Погонщики торопливо навьючивали мулов, подтягивали постромки, ремешки, равномерно распределяли груз на спинах животных. Затем раздались громкие крики погонщиков: «Олла! Мулы! Олла!..»
Эти крики и отчаянная ругань погонщиков, многократно повторенные эхом, доносившимся с противоположного берега озера, где стеной высился лес, создавали невероятный шум.
Капатасы тоже кричали и ругались, выстраивая колонну. Щелкали бичи, раздавались свистки вербовщиков. Индейцы перекликались, звали друг друга на помощь, чтобы взвалить на спину тюк или напомнить, что товарищ забыл шляпу или бутыль из высушенной тыквы.
После короткого перехода команда подошла к мосту, только что перекинутому через ручей и прилегающее к нему болото. Вода в ручье была черной от тины. Казалось, стоит оступиться — и увязнешь с головой.
Постройка самого моста была делом несложным. Гораздо трудней оказалось замостить тропу, ведущую к ручью. Берега здесь были совершенно плоскими и поэтому топкими. Густые заросли джунглей не пропускали солнца, которое могло бы хоть немного подсушить болотистую почву.
Опавшие листья, обломившиеся ветки, прогнившие стволы деревьев быстро превращались в перегной, и болото разрасталось все больше.
Построить настоящий мост через эту трясину можно было бы только из железобетона. Однако в Мексике даже на больших проезжих дорогах, где постоянно курсируют караваны карретас — повозок, — мосты строились только из дерева и находились в таком состоянии, что ни у кого никогда не было уверенности, что ему удастся благополучно проехать.
Тропинка, которая вела к берегам ручья, метров двадцать, если не больше, шла по трясине; в ней поблескивала черная вода. В темно-зеленом мерцающем, душном полумраке джунглей болото казалось куда черней и страшней, чем при ярком солнечном свете. Стоило сделать один неосторожный шаг — и человек по колено погружался в зыбкую топь. Трясина хватала его за ноги, словно живая. Она присасывалась к человеку, и у него возникало чувство, будто кто-то медленно и упорно тянет его вниз. Он делал шаг, чтобы, опершись на левую ногу, высвободить правую, но тогда и левая увязала в трясине. Быть может, если исследовать это болото, оказалось бы, что оно неглубоко и что метром ниже лежат уже твердые скалистые породы. Но с тем же успехом могло оказаться, что твердые породы проходят на глубине трех метров или что именно в том месте у болота и вовсе нет дна. Поэтому никого не интересовал вопрос, как глубоко лежат здесь твердые слои. Каждый, увязая в болоте, отчаянно барахтался, стараясь как-нибудь выбраться. Кряхтя, обливаясь потом, задыхаясь, человек выползал наконец из болота. Сердце, казалось, готово было выпрыгнуть у него из груди. Распластавшись в изнеможении на земле, он думал, что же ему делать дальше. Пути назад не было. Нужно было либо идти вперед, либо погибнуть здесь.
Так, видимо, и случилось с первыми мексиканцами и испанцами, которые искали тропы, ведущие через джунгли в тайные, легендарные города индейцев, где крыши домов сделаны якобы из чистого золота, а женщины носят ожерелья из бриллиантов величиной с утиное яйцо. Когда эти первые золотоискатели обнаружили, что тайных городов не существует, они принялись искать золотые жилы и бриллиантовые россыпи… Не найдя ни золота, ни бриллиантов, они удовольствовались красным деревом, которое при умении тоже можно превратить в золото. Таким образом, труды первых исследователей джунглей не пропали даром, и их тропами пользуются до наших дней.
Караваны, которые шли этими тропами, никогда не сходили с них в сторону, не делали ни малейшей попытки измерить глубину болота, пойти в обход или проложить новые, быть может более удобные тропинки, чтобы доставить товары на монтерию самым коротким и быстрым путем. Да они и не имели никакой возможности прокладывать новые дороги. Количество маиса, которое они брали с собой для мулов и лошадей, и количество продуктов для людей было так точно рассчитано, что даже двухдневная задержка в пути могла оказаться роковой. Ведь трансатлантические пароходы тоже не пытаются открывать новые, более удобные морские пути.
Погонщики знали своих животных. Говорят, что мулы и лошади, родившиеся и выросшие в Табаско, хорошо ходят по болотам — их приучают к этому с первых шагов. Поэтому они пользуются очень большим спросом и стоят дорого. И все же здесь, в джунглях, даже мулы из Табаско начинали артачиться. Большинство же мулов, идущих на монтерию, привыкли к степям и вообще не умеют ходить по болотам. Их можно провести через озера, даже через глубокие реки, но не через топи. Стоит им хоть немного увязнуть — и они словно бесятся от страха: топчутся на месте, погружаясь все глубже в трясину, а когда им удается наконец выбраться, они, если не держать их на лассо, мчатся во весь опор назад, до ближайшего ранчо.
Конечно, обычно мулам не давали вырваться и убежать. Но ни удары, ни ласковые слова, ни самая отборная ругань не могли их заставить идти по болоту. Еще без вьюка они, может быть, пошли бы, но с вьюком это было безнадежно. Мулы чувствовали, что под тяжестью груза они увязнут еще больше и им будет еще трудней, а может быть, и вообще невозможно выбраться. Иногда их, правда, удавалось заманить в болото, если вожаками были мулы из Табаско, но это случалось редко.
Умелые погонщики и не пытались заставить караван пройти по болоту. Они знали по опыту, что если мулы проявляют хоть малейшие признаки страха, то разумнее сразу приняться за сооружение настила. Так и время выиграешь и риска нет.
Пеонам приходилось рубить десятки стволов, нарезать груды зеленых веток и затем настилать все это на заболоченную тропу. Прикрытая листьями трясина уже не казалась мулам такой страшной. Кроме того, настил и в самом деле придавал почве некоторую твердость. Конечно, он качался и трясся у мулов под ногами, и они шли очень осторожно, но все же шли.
Но через ручей, из-за которого, собственно говоря, вся окрестная местность и оказалась заболоченной, пришлось построить уже нечто вроде настоящего моста. Его сложили из длинных, крепких стволов, связанных лианами, а сверху покрыли настилом из листьев и ветвей.
Таким образом, если даже бревна и начнут расходиться, копыта мулов не попадут в щели.
Как только соорудили настил, просвистел сигнал к отправлению. И тут-то началась работа погонщиков. Мулы, которые погорячей и готовы идти по любым, даже самым ужасным дорогам, теснились у настила и входили на него, когда пеоны еще устилали бревна ветками и листьями. Хороших мулов трудно удержать — они все время рвутся вперед. Из своего богатого опыта они знают, что за день им так или иначе придется пройти положенный отрезок пути. Даже когда они впервые идут по новому маршруту, они на расстоянии чуют привал. Дело в том, что запах после стоянок каравана долго не выветривается, и опытные мулы прекрасно отличают место дневного привала от ночного. После ухода каравана на поляне, где ели и отдыхали люди и животные, долго чернеют остывшие костры, кучами лежит зола, валяются головешки и горы высохшего навоза. И животные, оказавшиеся впереди остальных — то ли потому, что они хорошие бегуны, то ли потому, что другие мулы часто сбрасывали поклажу и их приходилось перевьючивать, — сами останавливаются, дойдя до места привала, словно завидя там вывеску. Здесь они ложатся и ждут появления остального каравана. Впрочем, место привала мулы узнают не только по внешним приметам. Они чувствуют, сколько времени они уже в пути. Если им попадется поляна для привала в одиннадцать часов утра, они чаще всего пройдут мимо, даже не останавливаясь. В два часа дня они потопчутся в нерешительности, так как чувство времени подскажет им, что здесь может быть привал; а окажись они на привале в четыре часа, их едва ли удастся сдвинуть с места — они знают, что после четырех часов по джунглям уже не путешествуют, разве что в последний день на пути домой.