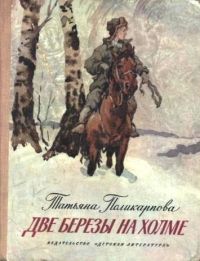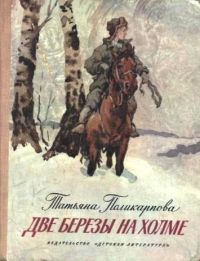Наверное, потому, что «Красный сарафан» на репетиции вызвал разговоры о прялке, о льняной кудели, сейчас, лишь только увидела я тетю Еню за пряжей, мотив песни проснулся в мозгу, потек, вбирая в себя и сиплый шумок самовара, и звяканье чашек, и голос тети Ени, и тишину за окном…
Рано мою ко-о-осыньку
На две расплета-ать…
И под этот напев та стесненность, тяжесть, давившая мне сердце (или эту самую душу!), словно стронулась, стала таять, как ледок в теплой воде, и потекла, потекла, освобождая дыхание, но до конца не исчезая. Привязался же этот «Сарафан»! Вкрадчивый обман слов, вкрадчивая покорность матушки, тоска красной девицы, которую все равно уговорят. Тоска и несогласие все еще донимали меня. Текли, не кончаясь. Я поставила на блюдце чашку с морковным чаем так крепко, что сплеснула. И спросила угрюмо, просто чтобы сказать что-нибудь:
— А зачем косу на две расплетать, а, теть Ень?
— Это ты о чем?
— Так мы же «Не шей ты мне, матушка…» репетируем!
— Во-он что! Такую старинную? Смотри-ка! Ну-ну… — одобрительно кивнула тетя Еня. — А косу-то, одну косу, носили девушки. Замужние плели волосы в две. Вот, значит, и не хочет она замуж — рано, говорит, на две-то расплетать.
— А мы всегда две плетем, с детства! — задорно сказала Зульфия, и они засмеялись.
— Вам и горя мало — не переживать, замуж-то выходить, косу не делить, уж разделенная, — проговорила тетя Еня, смеясь. — Все и горе-то было, поди-ка, в косе.
— Несправедливая песня! — сказала я громко, чтоб заглушить их смех, и невпопад — шутливый же шел разговор!
— Зато красивая, — тихо произнесла тетя Еня, взглянув на меня с удивлением.
— Вот и плохо, что несправедливая, а красивая! Так не должно быть!
— Деваться-то некуда было девушкам… Вот и пелось про то покрасивей. Как-то оно не так обидно. Вишь: «И я молодешенька была такова. И мне те же в девушках пелися слова…» И напев под стать уговору — протяжный…
— Вот-вот, тетя Еня! Для обману все! Для обману!
Я и раньше чувствовала, что есть тут что-то! Да вот объяснить не могла!
— Не для обману, а для уговору! — смеется тетя Еня.
А Зульфия, которая молча слушала наш разговор, вдруг сказала, глубоко вздохнув:
— Нам песня строить и жить помогает…
От неожиданности я поперхнулась чаем. Глянула на Зульфию — она мне так лукаво подмигнула, — и, с радостью включаясь в игру, я охотно с ней согласилась:
— Она, как друг, и зовет и ведет.
И уже вместе с ней мы негромко допели:
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!
Урра! Вот это песня!!!
— Ну, слава богу, развеселились! — проговорила тетя Еня. — А то киснут и киснут. Одна молчит, другая к старине придирается. Вот, девчата, разгадайте лучше загадку:
Пять овечек стог подъедают,
Пять овечек прочь отбегают.
Мы смеемся: разгадка-то перед нашими глазами: это сама тетя Еня, пряха, ее работа!
Пальцы левой ее руки (пять-то овечек!), вытягивая волокно, подщипывают и подщипывают непрерывно кудель, привязанную к головке прялки. И пухлый комок кудели словно подтаивает снизу. Но ведь так и овечки: не могут высоко достать, кормясь у целого стога. И подъедают его снизу.
А другие пять овечек — на правой руке, — будто юлу, запуская веретено, убегают прочь вместе с ним. Ведь, раскрутившись, веретено, как живое, само бежит от прялки, натягивая и скручивая в нить волокно, выщипнутое пряхой. А ее ладонь только чуть придерживает, направляет его бег. Веретену не убежать дальше вольно откинутой руки пряхи. Вновь подтолкнутое пальцами, оно возвращается, теперь наматывая спряденную нить на свое толстенькое и все полнеющее брюшко.
И опять сучат сильные пальцы тонкое жало веретена, и опять смело отпускают его пробежаться, разлететься. И снова, и опять… Снова и опять… Рука с веретеном снует, как челнок: ближе к прялке — прочь от нее, ближе — и прочь… Подъедают овечки стог. А другие пять — убегают.
Какая удивительная работа! Такая однообразная, она завораживает, как движение волн, как длинные строфы стихов.
Вглядываясь сейчас с особым вниманием в фигуру нашей хозяйки, отрешенную и сосредоточенную, я подумала… Подумала, сколько уже веков сидит вот так пряха…
Одетые по-разному, не понявшие бы языка друг друга, древние гречанки и египтянки, славянки и древние германки и француженки, увидев друг друга за прялкой, успокоенно бы закивали головами, понимающе улыбнулись и продолжали бы свое вечное дело.
А поэты, с тайным страхом глядя на бесконечно текущую из-под их пальцев нить, сочиняли красивые и страшные легенды. Эти легенды и выдавали их страх перед женщиной с веретеном: Спящая красавица укололась о веретено. Мойры, богини судьбы у древних греков, были пряхами. Для каждого человека они пряли нить судьбы. Обрывалась нить — и умирал человек. А когда богиня-пряха брала в руки еще пустое веретено и заводила новую нить, кто-то рождался. Начиналась новая судьба.
А что, похоже: из разных тончайших волокон скручивается нить. Из белых — белая. Из черных — черная. А смешай, сбей вместе белое и черное — будет серая. Если длинное, прочное волокно — и нить прочная. Короткое, ветхое — и нить никудышная.
И можно понять поэтов, глядя на нашу тетю Еню: и строго, и бесстрастно ее красивое лицо; спокойны темные глаза под всегда белоснежным платком; горделиво выпрямлены спина и шея. Широкая, прямая кофта, бористая юбка до пят лишают фигуру подробностей; она как живая скульптура и почти так же неподвижна. Только плавно — к себе, от себя — ходит рука с веретеном.
Я рассказываю ей о мойрах. Она слушает так внимательно, даже несколько раз бросает на меня быстрый взгляд, восклицая:
— Вот что!..
А когда я кончила, помолчав, промолвила:
— Гляди ты… У теплого, говоришь, моря… А так же пряли. И богинь таких себе выбрали. Видать, народ был трудовой, понимающий работу. Интересно… — опять покачала она головой, и довольная улыбка поморщила ее губы, будто эти древние греки ее похвалили за труд, как и она их только что. И тут же она похвалила меня. — Вишь, Даня, как хорошо много-то знать, — сказала она тоном наставления, но никак не зависти. — Ты понимаешь не только то, что твои глаза видят. Дальше можешь понять. И меня вот сейчас утешила. А то прядешь и прядешь всеё-то жизнь. Экое дело! А кто-то вот, гляди, про твою работу еще когда подумал! До рождества Христова, говоришь? Это надо! Конечно, и сам сидишь за прялкой да думаешь про свое. Ежели теперь всеё-то мою пряжу назад размотать, и правда что выйдет моя судьба… Как есть.
И мы замолчали, и я подумала про бабушку, которой не было с нами.
— Тетя Еня, а не устает рука? — спросила находчивая моя подружка.
И наша хозяйка охотно отозвалась:
— Не-ет! Даже отдыхаешь, сидючи, не цельный же день.
— Ой, тетя Ень! Дайте попробовать! — взмолилась Зульфия.
И сердце мое ревниво вздрогнуло оттого, что я сама не смела попросить об этом тетю Еню. Я думала: что ее зря отвлекать от дела? Теперь видела — нашей хозяйке была приятна просьба.
И Зульфия примостилась, уселась на хвост прялки, как полагается. Ее маленькие, цепкие и будто всегда растопыренные пальчики взялись за веретено, потянулись к кудели, но волокно из кудели вырвалось толстым клоком — не полупрозрачной прядкой, а веретено тюкнулось толстым концом в пол.
Ой, как же мне захотелось попробовать!
И тетя Еня заметила.
— Тебе, Даша, охота? Ну, давай, — пригласила она, еще чуть помучившись с Зульфией.
С бьющимся сердцем села я за прялку, потянула мягкую, шелковистую шерсть. Вон оно что! Почему не получается у нас! И правая, и левая рука стремились к одинаковым жестам. Правая заводила веретено движением довольно резким, и то же самое стремились повторить пальцы левой! А ведь им надо бы потихонечку тянуть кудель, плавно! Вот почему нить у нас сразу рвалась, а веретено недостаточно сильно раскручивалось и падало бескрыло.
— Ну, будет, пряхи, напрялись! Не получается с одного-то разу. А вам и ни к чему. Тому скоро обучаешься, что в жизни необходимо…
Тетя Еня присучила оборванную нить, и запело живое и крылатое в ее руках веретено.
Вот интересно: научится наша Нинка или нет? Ей-то необходимо! Нам не пригодится, наверное, так.
И тетя Еня уже не ткет, например. Хоть умеет. И ткацкое устройство — кросна — пылится у нее в задней, холодной избе, где лежат и стоят разные хозяйственные вещи, лари, короба. А все, что видели мы в сундуке — скатерти, полотенца, холсты, — все соткано на этих кроснах тетей Еней или еще бабушкой.
А теперь зачем ткать, когда до войны вон было сколько разной красивой материи! И простой, и шелковой. Это сейчас мы только мечтаем о красивых платьях и рисуем разные наряды нашим маленьким бумажным куклам. Больше-то мы в эти куклы никак не играем — только придумываем узоры для ткани и фасоны.