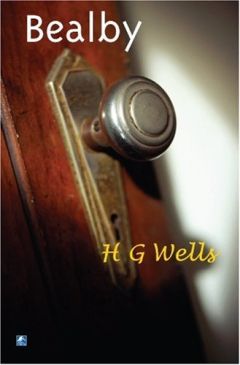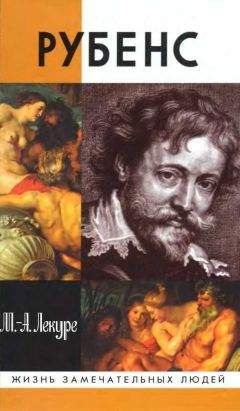Но она его волновала, будоражила так сильно, что все остальное неразбериха, колебания, безумства — было только следствием этого волнения. Вот откуда дикий порыв, заставивший его мчаться очертя голову неизвестно куда и зачем...
— Рехнулся я, что ли, черт побери! — сказал капитан.
— Вот, например, сейчас, — продолжал он, — ну зачем я туда еду? Ведь стоит мне только вернуться, как она тотчас начнет строить из себя оскорбленную королеву. Ничего не понимает, если это не касается ее драгоценной особы. Ей нужен этакий пылкий возлюбленный, как на сцене...
Она нарочно взвинчивает и подхлестывает меня! Она всех нарочно взвинчивает и подхлестывает — в этом единственный смысл ее жизни.
И, подумав над этим глубокомысленным выводом добрую минуту, капитан произнес следующие исторические слова:
— Ну, нет!
На него вдруг снизошло какое-то яростное просветление.
— Уж эти любовные утехи... — сказал он. — Сначала я совсем не давал себе воли, а теперь чересчур распустился. Вел себя, как одержимый болван... От всех этих свиданий, объятий и оборочек у меня просто голова пошла кругом.
И заключил давно назревавшим обобщением:
— Все эти любовные игрища недостойны настоящего мужчины. Толчешься среди юбок, пуховок, реверансов, упреков и подозрений... Гнусная игра... И непременно стравят тебя с другим мужчиной...
— Будь я проклят, если позволю...
— И вообще, пора поставить женщин на место...
— А не сделать этого — они наварят такой каши...
Потом капитан некоторое время размышлял молча и грыз кулак. Лицо его потемнело, глаза стали злыми. Он выругался, словно какая-то мысль жгла и терзала его: «Уступить ее другому! Только представить себе ее с другим!»
— Мне все равно, — сказал он, наконец, хотя ему явно было не все равно. — Свет клином не сошелся на ней одной.
— Мужчина, настоящий мужчина не должен из-за этого волноваться.
— Как ни говори, а тут либо одно, либо другое, — сказал капитан.
И вдруг капитан принял окончательное решение.
Он поднялся на ноги, лицо его, с которого сбежала краска, было спокойно и непреклонно. Точно христианин, сбросивший с себя бремя грехов, он оставил мотоцикл и прицеп у дороги. Потом спросил у проходившей мимо няньки с младенцем, как пройти к ближайшей железнодорожной станции, и тронулся в путь. По дороге ему попалась велосипедная мастерская, он заглянул туда и поручил заботам мастера брошенный мотоцикл и прицеп. Капитан отправился прямехонько в Лондон, переоделся у себя дома, пообедал в клубе и в тот же вечер укатил во Францию, — да, во Францию, чтобы захватить хотя бы конец больших маневров.
На следующий день в поезде он написал Мадлен письмо, в котором, как всегда, называл ее ласковыми словами, но избегал говорить об их отношениях; зато очень красочно живописал долину Сены и достопримечательности Руана.
— Если она чего-то стоит, она поймет, — сказал капитан, хотя он уже отлично знал, что ничего она не поймет.
Миссис Гидж заметила это письмо среди другой корреспонденции и потом была очень встревожена поведением Мадлен. Ибо сия леди вдруг впала в невероятную игривость и бурное веселье: она напевала обрывки песенок, придумывала все новые развлечения, без умолку болтала о пикниках и дальних прогулках. Она трепала по плечу мистера Гиджа и хватала под руку профессора Баулса. Оба джентльмена принимали эти фамильярности с радостным смущением, вызвавшим презрение миссис Гидж. Мало того, Мадлен вовлекла в их кружок несколько застенчивых незнакомцев, и даже владелец отеля с удовольствием помогал компании развлекаться.
Венцом всех затей был пикник при лунном свете.
— Мы разведем огромный костер и потом будем танцевать, да, да, сегодня же.
— Не лучше ли завтра?
— Нет, сегодня!
— Завтра, возможно, вернется капитан Дуглас, а ведь он мастер на такие забавы.
Миссис Гидж отлично разглядела французскую марку на письме капитана и знала, что завтра он не вернется, но ей хотелось дознаться, что же произошло, потому она и высказала это предположение.
— Я его отослала к его воинским обязанностям, — безмятежно ответила Мадлен. — У него есть дела поважнее.
А у него и вправду были дела поважнее. Все это происходило на заре воздухоплавания — и в наши дни, несмотря на враждебность лорда-канцлера и недоверие многих здравомыслящих людей, во всей истории английской авиации вряд ли найдется более славное имя, чем имя полковника Алана Дугласа.
Еще несколько минут после того, как капитан Дуглас не простясь выбежал из дома лорда-канцлера, никому, даже самому Билби, и в голову не приходило, что капитан забыл там своего свидетеля. Генерал вместе с лордом Магериджем двинулся в прихожую, и Билби, повинуясь быстрому выразительному жесту Кэндлера, скромно поплелся за ними. Затем вся процессия вышла из дому, и пока младший лакей вызывал коляску для генерала, лорд-канцлер хоть и поспешно, но учтиво и с достоинством наконец отбыл в сопровождении Кэндлера, который заботливо, но несколько неодобрительно оберегал своего господина. Тут Билби постепенно начал понимать, что все его покидают, и растерянно оглядывал этот чужой мир, такой холодный и пугающий. Кэндлер уехал. Последний джентльмен сейчас уедет. Младший лакей вовсе ему не друг, это Билби чувствовал очень отчетливо. От младших лакеев вообще добра не жди.
Лорд Чикни уже занес ногу на подножку экипажа, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет его за полу сюртука. Он с удивлением оглянулся.
— Извините, сэр, это я, — сказал Билби.
Лорд Чикни призадумался.
— Что тебе? — спросил он.
К этому времени Билби совсем пал духом. Лицо его сморщилось, голос дрожал: он готов был расплакаться.
— Я хочу домой, в Шонтс, сэр.
— Ну что ж, мой мальчик, иди домой... иди себе домой в Шонтс.
— Но он уехал, сэр, — сказал Билби.
У лорда Чикни было доброе сердце, кроме того, он знал, что доброта, проявленная на людях, и некоторое пренебрежение приличиями порой производят куда лучшее впечатление, нежели педантичное достоинство. Он довез Билби до вокзала Ватерлоо в своей коляске, купил ему билет третьего класса до Челсама, дал на чай носильщику, чтобы тот посадил мальчика в вагон, и простился с ним по-отечески.
Билби чувствовал, что время пятичасового чаепития давно прошло, когда он снова очутился, наконец на земле Шонтса.
Беглец, вернувшийся к родным пенатам после этой богатой приключениями, недели, был новым Билби, куда более серьезным и умудренным жизнью. Правда, он не совсем понимал все, что с ним произошло, особенно его озадачил бурный гнев и внезапный отъезд капитана Дугласа. В общем же, он считал, что ему грозило суровое наказание, а потом его простили, хотя и довольно поспешно и вообще как-то странно. Добрый старый джентльмен с длинными седыми усами привез его на вокзал и даже вроде благословил. Но Билби теперь куда лучше, чем раньше, понимал, что далеко не всякое приключение оборачивается удачно для юного храбреца и что где-то в основе общественной системы таится немало пренеприятных и опасных ловушек. Билби начал постигать азы жизненной мудрости. Как хорошо, что удалось удрать от бродяги! А еще лучше, что удалось удрать из Крейминстера. Конечно, жаль, что больше не придется увидеть ту красивую леди... и вообще ничего не поймешь на этом свете... И еще интересно, будет ли у мамы поджаренный хлеб к чаю.
Да чай-то, наверно, давным-давно отпили, ведь уже так поздно...
А не лучше ли потихоньку пробраться в темную каморку под лестницей, служившую ему спальней, надеть свой зеленый передник и появиться перед всеми как ни в чем не бывало, спокойно и деловито... Или можно пойти прямо в сад... Но если хочешь чаю с чем-нибудь, нужно идти в сад.
Прямую дорогу через парк неожиданно перегородила глубокая длинная канава — кто-то выкопал ее после прошлого воскресенья, да так и бросил. Интересно, зачем ее выкопали? Ужас, какая безобразная канава! А когда он вышел из-за деревьев и увидел дом, его сразу поразил какой-то подбитый и перевязанный вид фасада. Словно Шонтс ввязался в драку и ему подставили синяк под глазом. Но тут же мальчик понял, в чем дело: одна из башен стояла в лесах. Что ж такое с ней случилось? Впрочем, с него довольно и собственных забот.
Ему повезло: в саду он не встретил отчима и прокрался в дом так тихо, что мать даже не подняла глаз от шитья. Она сидела за столом и что-то шила из свежевыкрашенного черного кашемира.
Билби поразился: какая она бледная! И сидит как-то сгорбившись, точно сейчас заплачет.
— Мама, — позвал он.
Она порывисто вскинула голову и уставилась на него — глаза были блестящие, огромные и полные изумления.
— Ты прости меня, мама, я не больно хорошо помогал буфетчику... А вот если бы мне попробовать еще разок...
Он на минуту умолк, удивленный тем, что она ничего не отвечает, сидит с каким-то странным лицом и только все время открывает и закрывает рот.