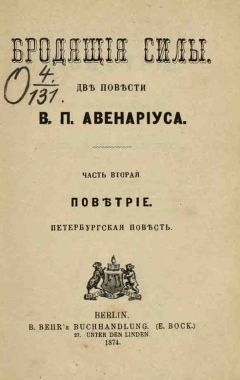— Молчи! Не смей говорить мне ничего против нашей святой римской церкви! — запальчиво прервала его княжна Марина. — Ты забываешь, что ты в костеле, что всякое слово здесь против нашей веры — богохульство!
— Не буду, сестрица. Отыскал я тебя вовсе не с тем, чтобы отвратить тебя от твоей веры. Оба же мы молимся тому же Создателю, а как молимся, лишь бы молились истово, без утайки — для Него, Отца нашего Небесного, все одно: все мы — его дети. Узнал я, вишь, что отдают тебя в монастырь, и должен был спросить: не неволят ли тебя?
Княжна Марина со вздохом отвернулась и медлила с ответом.
— Значит, неволят! — воскликнул Курбский. — Я этого не допущу!
— Ты? — недоверчиво промолвила сестра и горько улыбнулась. — Тебя, баннита, матушка просто в дом не впустит, а узнает брат Николай — помилуй тебя Бог!
— Баннит я еще, правда, сестрица; но банницию с меня не нынче-завтра снимут: я здесь, в Кракове, не сам по себе, а с московским царевичем, при котором состою самым близким человеком.
— Да сам-то царевич кто такой? Слышала я…
— Теперь, милая, я попрошу тебя замолчать! — решительно перебил ее брат. — Я признаю его за царского сына и не дозволю против нею ни полуслова. Довольно с тебя, что он прибыл в Краков с согласия короля Сигизмунда, что король готов принять его и не отказывает ему в своей поддержке. Ты понимаешь, значит, что через своего царевича я мог бы многое для тебя сделать. Откройся мне: за что родные на тебя так осерчали, что осудили тебя на вечное заточение?
Нести горе свое одной стало молодой княжне, видно, невмоготу: с чувством непритворной благодарности глянула она в глаза брата и, как бы стыдясь предстоящего признания, тотчас снова потупилась.
— Неохота мне трогать память нашего покойного родителя, — тихо начала она. — По его ли вине, нет ли, польская корона всегда, еще и при его жизни, была, как ты знаешь конечно, против нашей полурусской семьи; с кончиной же его мы при дворе совсем в немилость впали.
— Потому что мама не исполнила всего, как бы следовало, что было прямо предписано ей в завещании мужа! — подхватил Курбский.
— Будь так. Но если она кой-кому из служилых людей не отдала завещанной доли…
— Или просто силой отняла у многих то, что пожаловал им батюшка еще при жизни своей…
— Ну, полно, брат Михал. Нам, детям, судить родителей своих негоже. Мама делала это все ведь только для нас…
— То есть, для брата нашего Николая, но никак уж не для меня, да и не для тебя: зачем бы ей отдавать тебя в монастырь? Ну, да Бог ей судья! Прости, сестрица; говори дальше.
Из рассказа сестры Курбский узнал следующее: если при короле Стефане Баторие семье их, как пришлой, жилось трудно, то Сигизмунд III еще пуще теснил их, отнимал у их матушки, княгини, под разными предлогами для своих фаворитов сперва мелкие местности, а потом и крупные. Года четыре назад, по декрету королевскому, в Ковель, родовой их город, был прислан шляхтич Щасный Дремлик с требованием добровольно очистить их замок для Андрея Фирлея, зятя первой жены князя Андрея Михайловича Курбского, Марии Голшанской, которому литовские сенаторы присудили Ковель. Накануне, однако, еще прибытия Дремлика, к ничего не чаявшим Курбским нагрянули глухою ночью гайдуки Фирлея, перебили, переранили всю их стражу и прислугу и принялись грабить замок. На утро явился Щасный Дремлик, как раз еще вовремя, чтобы защитить княгиню с детьми от грабителей, которые готовы были выгнать их на большую дорогу. Строго наказав самовольников, он вежливо попросил Курбских уступить замок «законному» новому владельцу, Фирлею, и тем ничего не оставалось, как покориться необходимости. Они собрались к давнишней подруге княгини, пани Доротее Фаличевской, в село ее Перевалы. Но при этом княгиня, оставаясь при убеждении, что паны сенаторы ее кругом обидели, и что Ковель по-прежнему ее собственность, тайком вывезла оттуда с собой все драгоценное оружие, дорогую церковную утварь и разное другое добро. Этого Щасный Дремлик не мог уже попустить, нагнал их на дороге, отобрал все увезенное, а самое княгиню взял под стражу. Только когда пани Фаличевская представила заклад в 100 ООО злотых, он нашел возможным отпустить княгиню к подруге на поруки. Но с этого времени княгиня возненавидела Дремлика, как самого заклятого врага, хотя тот исполнял не более как королевский декрет и обходился с ними кротко, почтительно… На этом княжна Марина запнулась и замолкла. Курбский, не сводивший с нее глаз, не мог не заметить, что при имени Щасного Дремлика голос ее звучал иначе.
— А этот Щасный Дремлик — бедный шляхтич? — спросил он.
— Да; но душой заправский польский рыцарь…
— И человек еще молодой?
— Да… не старый…
— А собой-то каков? Пригож?
— Право, не знаю…
Но ответ девушки был так нерешителен, румянец так внезапно залил ее бледное до тех пор лицо, что у брата не могло оставаться сомнений…
— Не возьми во гнев, милая моя, — сказал он, — но ты, я вижу, очень хорошо знаешь, каков из себя этот Щасный Дремлик: лучше, пригожей его для тебя нет человека в Божьем мире. Ведь правда?
Молодая княжна боролась еще минутку с природной стыдливостью, затем чуть слышно прошептала:
— Правда…
— Ну, вот. И сама ты точно также ему в мире всех дороже?
— Кажется.
— А мама наша, конечно, слышать об нем не хочет, потому что он простой шляхтич, да еще потому, что обошелся с вами в Ковеле так не «по-рыцарски?»
— Вот именно; но скажи, брат Михал, на тебя сошлюсь: мог ли он оставить нам то, что было уже не наше?
— Вестимо, не мог. И из-за него-то, поди, мама так и осерчала на тебя, что отдает тебя в монастырь?
— Из-за него, да… Ах, я несчастная, несчастная!
Долго заглушаемое душевное ожесточение вырвалось наконец наружу. Закрыв лицо руками, девушка глухо зарыдала. Брат начал было утешать ее, обещаясь перетолковать с матерью.
— Нет, нет, лучше и не пытайся!.. — перебила его сквозь слезы княжна. — Тебя она все равно не послушает, а мне тогда совсем житья не станет…
— Так разве с братом Николаем?..
— Ни-ни! Он первый же настоял на том, чтобы меня удалить в монастырь за тот якобы позор, что причинила я нашему роду, полюбив простого шляхтича.
— Так, стало быть, ничего оного не остается, как бежать тебе к твоему суженому, обвенчаться тайно.
— Что ты, что ты говоришь, Брат Михал! — испугалась княжна; но по радостному звуку голоса ее слышно было, что мысль брата воскресила уже ее надежды.
— Как сделать это — я еще сам не ведаю; надо толком поразмыслить. Но ты, сестрица, согласна?
— Брат! Дорогой брат мой! — был весь ее ответ. Богослужение в Марианском костеле шло своим чередом, и никто не обратил внимания, как из бокового полутемного придела вышел сначала молодой высокий рыцарь, чтобы тотчас удалиться из храма, а немного погодя показалась и молодая панна, чтобы перед главным алтарем распластаться крестом. Молилась княжна Марина усерднее, дольше всех и поднялась только тогда, когда подошедшая к ней старушка-мамка не напомнила ей, что пора идти домой.
Глава тридцать седьмая
ЦАРЕВИЧ У ПАПСКОГО НУНЦИЯ
Судьба сестры поглощала теперь внимание Курбского чуть ли не более судьбы самого царевича; к тому же в делах царевича произошла некоторая заминка.
Еще в первые дни своего пребывания в Кракове, Курбский наткнулся раз на улице на оригинальную процессию. Четверо дюжих телохранителей в пунцово-красных камзолах разгоняли бердышами встречный народ для своего господина, следовавшего за ними верхом на статном, откормленном, мышиного цвета муле, накрытом шелковым, вышитым ковром с цветными кистями. Сам всадник был осанистый, сухощавый старик со строгими, но привлекательными чертами гладко выбритого лица, в высокой митре и в фиолетовой рясе с пелериною, отороченной белой атласной тесьмою. По бокам его бежали два нарядных пажа, а позади, несмотря на весеннюю слякоть, тянулась пешком целая вереница католических патеров и мирских чинов. В числе духовных Курбский заметил и иезуита Сераковского, который с видом скромного самосознания выступал в первом ряду.
— Рангони, римский нунций! Дайте дорогу!.. — проносилось кругом, и всякий спешил посторониться и благоговейно глядел вслед знаменитому папскому легату, пользовавшемуся такою силою у престола св. Петра.
«Уж не к царевичу ли?» — сообразил Курбский и ускорил шаги, чтобы на всякий случай быть дома еще до прибытия высокого гостя.
Догадка его оправдалась. Едва успел он предупредить Димитрия, как Рангони всходил уже на крыльцо. Визит этот, очевидно, не был простой формальностью; на некоторое время царевич заперся с представителем папы в своем кабинете; а когда они возвратились оттуда в приемную, то немногих слов, которыми они тут еще обменялись, было достаточно, чтобы понять, о чем у них могла быть речь.