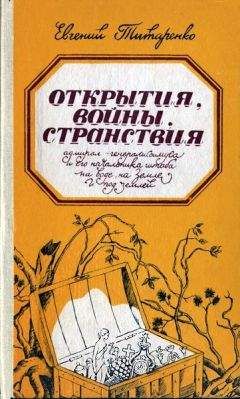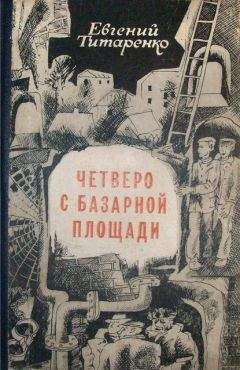Обессиленные, разбитые, друзья не могли потом сказать, спали они или теряли сознание в эту холодную ночь… Но когда пришли в себя, было уже светло.
Лес шумел, перекликался на разные голоса.
Петька проснулся оттого, что Проня, взяв его за подбородок, несколько раз приподнял ему голову, больно стукнув затылком о дерево.
— А, живой… — сказал Проня.
Чернобородый складывал на потухшем пепелище хворост, чтобы снова разжечь костер. От своего дерева на Петьку глядел Никита.
Петьке показалось, что все это не наяву, — просто он видит страшный сон — неправдоподобный и явственный одновременно… Он весь окоченел, как: то разом подхлынула дрожь, и его стало бить как в лихорадке.
Петька хотел остановить дрожь, но не мог.
Вдруг Никита как-то странно захрипел, дернулся раз, потом еще раз, голова его свисла набок, и, осев, он скрючился на веревках.
Проня подошел к нему, выдернул изо рта кляп.
— Это еще что за блажь? — спросил от костра чернобородый.
Никита так и остался — обвисший на веревках, без движения…
Проня тронул его за голову.
— Живой… — Потом обернулся. — Нам не надо, чтоб они задохнулись. Я не хочу сесть миллионером в каталажку. Они заблудились в пещере и умерли от жажды, едва выбрались оттуда.
Чернобородый мрачно хмыкнул.
А Проня подошел и выдернул кляп из Петькиного рта.
— Теперь они так и так не раскричатся.
Петька глядел на Никиту и не сразу понял — что это? — когда щеку обожгла горячая, как огонь, слеза.
Бандиты доели остатки хлеба из их котомок. Проня сказал:
— Не будем терять время, надо идти за жратвой.
— Надо… — подтвердил чернобородый.
— Деньги у тебя? Я покараулю здесь, — сказал Проня.
Между ними разгорелся спор. Никто не хотел оставлять другого возле ящика с ценностями.
Наконец решили идти вместе. Это примирило обоих.
— Ас этими? — спросил чернобородый.
— Пусть сдыхают.
— К черту! Прикончим — это будет вернее! Проня опять разозлился.
— Они сдохнут и так! Сдохнут от жажды! Мы заметем все следы. Це трусь! Я знаю, что такое тайга. Их будут искать неделю, пока найдут! И больше искать не будут!.. А нам не к чему на себя лишнее брать. Не к чему наводить еще на одно дело. Мы пока в России.
Где-то за Петькиной спиной взошло солнце и всполошило мошкару. Но сначала Петька еще чувствовал ее укусы, а потом все: и жажда, и отеки в местах, где тело было перетянуто веревками, и опухшее от укусов лицо — слилось для него в одно сплошное одеревенение.
Грабители притушили костер, убрали за собой следы ночевки и, взяв ящик, потащили его в лес. Проходя мимо Петьки, чернобородый хотел ударить его. Проня взвизгнул:
— Не надо синяков! Я говорю, не надо синяков! Чернобородый матюкнулся, но руку опустил.
— Синяки будут от веревок.
— Веревкой они сами себя уже исполосовали. А не сдохнут, так… мы вернее… С той самой скалы… Живого места не останется… Разбились — и точка…
Когда шаги их растворились в тайге, Петька хотел окликнуть Никиту. Но тот сам вдруг выпрямился, потянулся, насколько позволяла ему веревка, расправляя отекшие суставы, огляделся по сторонам.
— Никита… — едва слышно, чужим, непослушным ртом, в котором деревянной колодой едва ворочался язык, позвал Петька. — Ты чего, Никита?..
Никита хотел улыбнуться, но губы его только дрогнули чуть-чуть, и непонятная гримаса исказила лицо. Ответил он тоже едва слышно:
— Это: я нарочно, Петь… Думал, развяжут… И у Петьки тоже не получилась улыбка… Помолчали, глотая воздух — широко открытыми ртами.
Силы как будто немножко возвратились.
Петька снова дернулся, снова попытался дотянуться до веревки зубами, но все было напрасно… Отдышавшись, тихо сказал Никите:
— Попробуй зубами…
Никита покачал головой. Он уже пробовал. Долго молчали.
— Ты знаешь, Петь, — неожиданно сказал Никита. — Когда нам идти за утятами, бабка не пускала меня… Говорит, ушлю к матери… А я говорю: ну и усылай… Так мы с ней и не помирились…
Петька застыл на секунду.
— А я, Никит, ставень матери не наладил…. Давно говорила…
Откуда-то понадвинулось на Петьку розовое-розовое марево и стало медленно обволакивать его голову. В этом мареве перед глазами Петьки вставало то горестное лицо матери, то покосившийся ставень. Он висел на одной петле и, поскрипывая на ветру, неслышно ударял о бревенчатую стену избы…
— Петь… — снова позвал Никита. Петька очнулся. — Слышь, Петь… Ты прости меня… что вот я не догадался… предупредить тебя… о Проне… А? Прощаешь?
— Что ты, Никит!.. — косноязычно зашептал Петька. — Ведь у меня же и своя голова на плечах, чтоб думать. Это я должен был думать… Ты и так подсказал много…
— А главного не подсказал…
— Если бы ты знал… — сказал Петька.
Петьке смутно — уже не слышалось и виделось, а как бы мерещилось, как вернулись под вечер Проня и чернобородый, как они снова долго пытались открыть железный ящик и это не удалось им, как напихивали в мешки продукты: хлеб, картошку, лук, воду, сало… Как пили потом…
Чернобородый подошел и сказал:
— Еще не сдохли…, Проня утешил:
— Немного осталось!..
Потом они долго спорили, как им быть дальше: уходить теперь или ждать до утра.
Проня сказал, что надо выспаться как следует и двигаться едва забрезжит, иначе они влетят в какое-нибудь болото раньше, чем выйдут на проселок. Затем напомнил, что надо будет еще «как-то устроить этих змеенышей», чтобы все у них с чернобородым — шито-крыто за спиной.
Петькин мозг то чуть просветлялся, то снова мутнел, и Петька погружался в вязкий-вязкий туман. Ни жажды, ни боли он уже не чувствовал. И когда думал о себе, думал не о том Петьке, что привязан к дереву, а о каком-то другом, непонятном, который не может ничего чувствовать и ходит, и что-то делает, но будто он из воздуха: ходит, не прикасаясь к земле, делает, ничего не трогая руками…
Костер бандиты не хотели разжигать… Но когда выпили водки, осмелели и разожгли небольшой… Потом открыли новую бутылку водки.
Дальнейшего Петька не слышал. И не видел, когда пришла ночь, когда уснули грабители на поляне. Тела у Петьки больше не было: не было отекших рук и ног, не было иссушенного рта, не было ничего — было только алое марево вокруг, потом смутные, дорогие Петьке видения в этом мареве.
Сорок первый год. Война. Уходит на фронт отец. Мать плачет. А Петька прыгает от радости на топчане. Зачем плакать? Ведь это счастье — идти бить фашистов, стать героем, вернуться в орденах! И Петька завидует отцу, завидует всем взрослым, что могут получать оружие.
Потом играет гармошка на улице, голосят бабы, скрипят подводы.
Сначала они скрипят вблизи, потом все дальше, дальше, потом у самого горизонта, потом их уже не видно, а бабы все идут, идут следом за подводами, и плачут, и падают на землю, и встают, и идут опять…
Потом похоронная. И мать уже не плакала. Мать положила ее за портрет Ленина в углу. И хотя Петька знал, что доить корову еще рано, мать взяла подойник и пошла за лес, в поле, доить корову… Она была там долго, но когда вернулась, опять не плакала.
Петька хотел пойти возчиком. Чудак: разве бы его взяли тогда в возчики! А мать сказала серьезно:
— Не надо, Петь. Я пока сама. Ты учись. А тогда помогнешь. Грамотному — оно все легче…
Потом победа. И одни мальчишки ликовали в этот день. А бабы опять плакали. Сначала плакали, а потом голосили песни. Длинные, бесконечные… Пили брагу и протяжно-протяжно голосили:
Вернулся в Белую Глину только Федька, дядьки косого Андрея сын. Да вернулся ненадолго, чтобы уехать, Никитин отец.
Потом голодный год. И Петька ходил собирать мерзлую картошку по полям. Никите мать присылала деньги, но на эти деньги купить было нечего, и Никита тоже ходил с Петькой по полям…
Наконец впервые выдали хлеб на трудодни, стало появляться белое, душистое масло в туесках, захрюкали поросята на подворьях…
Петька видит себя в розовом мареве, спящим на материной кровати.
Мать говорит ему:
— Петь, слышь, Петь… Надо бы ставень починить…
И Петька слышит, как хлопает на ветру покосившийся ставень, а проснуться не может.
Мать говорит еще что-то… Петька спит. Тогда мать начинает трясти его за плечо.
— Петька! Слышь! Петька!
Но почему это мать говорит Мишкиным голосом?
Петька хочет услышать ее знакомый тихий голос, а она трясет его изо всей силы и шепчет, совсем как Мишка:
— Петька! Это я! Петька!
Будто его ударили, Петька разом вскинулся весь. Холодная, росная ночь вокруг. И холод, и роса будто вплеснули в Петьку остатки прежних сил, приглушили жажду.