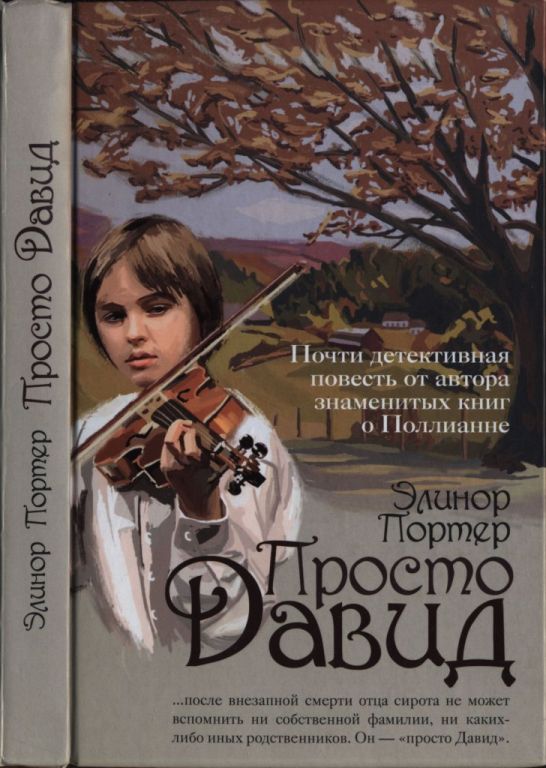умолкла, и сам он тоже сразу не смог ничего сказать. Но однажды он заявил мистеру Джеку, как мужчина мужчине:
— Я думал, мужчины, когда хотят жениться, ухаживают за женщинами. Так бывает в книгах. А вы… вы почти ни слова не сказали моей прекрасной Госпоже Роз. А однажды, давно, говорили, что едва ее помните. Так как же это объяснить?
И мистер Джек рассмеялся, но одновременно покраснел, а потом рассказал все — что у них с мисс Холбрук на самом деле произошла история принцессы и нищего и что Давид невольно обеспечил им часть ухаживаний.
Как же Давид смеялся, обхватив себя руками от радости! И какую же прекрасную, прекрасную мелодию он обнаружил в звучных струнах своей скрипки, когда взялся за нее!
Случилось так, что именно эту песню он играл в своей комнате в субботу, в послеобеденный час, когда на ферму Холли пришло письмо от давно потерянного сына Джона.
Внизу, на кухне стоял Симеон Холли, держа в руке письмо.
— Элен, у нас письмо от… Джона, — сказал он.
То, что Симеон Холли вообще об этом заговорил, свидетельствовало, как далеко, очень далеко прошел он по своей незнакомой дороге со времени предыдущего письма от сына.
— От… Джона? О, Симеон! От Джона?
— Да.
Симеон сел и вставил кончик ножа под клапан конверта, пытаясь скрыть дрожь.
— Посмотрим, что… он пишет.
У постороннего слушателя могло бы сложиться впечатление, что письма от Джона приходят каждый день.
В письме говорилось:
«Дорогой отец,
Я уже дважды писал тебе, но не получил ответа. Однако я собираюсь сделать еще одно усилие и попросить о прощении. Нельзя ли мне приехать к вам на это Рождество? Теперь у меня самого есть сын, и я очень тоскую по вам. Я знаю теперь, что чувствовал бы, повтори он мой поступок в будущем.
Не стану тебя обманывать — я не бросил искусство. Однажды ты велел мне выбирать между тобой и ним — полагаю, выбор я сделал. По крайней мере, я сбежал. Но, несмотря на это, спрашиваю тебя еще раз: нельзя ли мне приехать на Рождество? Ты мне нужен, отец, и мама нужна мне тоже. И я хочу, чтобы вы увидели моего мальчика».
— Ну? — сказал Симеон Холли, пытаясь говорить холодно и спокойно, чтобы не показать, насколько глубоко тронут. — Ну, Элен?
— Да, Симеон, да! — задыхаясь, ответила его жена, и в ее умоляющем взгляде и голосе отразился целый мир материнской любви и тоски. — Да, ведь ты разрешишь!
— Дядя Симеон, тетя Элен, — позвал Давид, топоча вниз по лестнице, — в моей скрипке нашлась такая прекрасная песня, и я буду играть ее снова и снова, чтобы точно запомнить ее для папы — ведь этот мир прекрасен, дядя Симеон, правда? А теперь послушайте.
И Симеон Холли слушал — но слышал не скрипку. Для него звучал голос кудрявого мальчика из прошлого.
Когда чуть позже Давид закончил игру, на него смотрела только женщина — мужчина уже сел за письменный стол с ручкой в руках.
Джон, жена Джона и сын Джона приехали за день до Рождества, к сильнейшей радости всех обитателей фермы Холли. Джон оказался большим, сильным и загорелым после долгих этюдов под открытым воздухом — сын, которым стоит гордиться и на которого можно положиться на склоне лет. Миссис Джон, говоря словами Перри Ларсона, оказалась «уж такая куколка». По словам матери Джона, молодая леди была невероятно точным воплощением дочери, о которой миссис Холли так долго и отчаянно мечтала, — милой, обаятельной и красивой. А маленький Джон — маленький Джон был самим собой и не стал бы лучше, будь он херувимом, спустившимся с небес, — каковым его и считали обожающие его бабушка и дедушка.
Джон Холли не успел пробыть в отцовском доме и четырех часов, когда наткнулся на скрипку Давида. В этот момент в комнате были только его мать и отец. Покосившись на родителей, он взял в руки инструмент. Джон Холли не забыл свое отрочество, когда его игра на скрипке вовсе не приветствовалась.
— Скрипочка! А кто играет? — спросил он.
— Давид.
— О, мальчик. Говоришь, ты… взял его к себе? Кстати, он престранный паренек! Никогда не видел мальчика, похожего на него.
Симеон Холли сердито вскинул подбородок.
— Давид — хороший мальчик, очень хороший, правда, Джон. Мы о нем самого высокого мнения.
Джон Холли добродушно хохотнул, но продолжал задумчиво хмуриться. Он все еще не мог понять двух вещей: откуда в отце эти неопределенные перемены и какое положение в доме занимает Давид — Джон Холли все еще помнил пережитые в отрочестве притеснения.
— Хм-м, — пробормотал он, легко касаясь струн пальцем, а потом робко проводя по ним смычком. — У меня дома есть скрипочка, и я иногда играю. Не возражаешь, если… я ее настрою?
В глазах отца промелькнуло нечто, весьма похожее на веселье.
— О нет. Мы нынче… к этому привыкли.
И снова Джон Холли вспомнил детство.
— Ничего себе! Да у парнишки шикарный инструмент, — поразился он, роняя смычок, которым только что извлек полдюжины потрясающе глубоких, вибрирующих нот, и поднося скрипку к окну. Через секунду он издал потрясенное восклицание и обратил к отцу ошарашенный взгляд.
— Силы небесные, отец! Где мальчик взял этот инструмент? Я знаю кое-что о скрипках, даже если особо не играю, и это! Откуда он ее взял?
— Полагаю, у отца. Так или иначе, он с ней пришел.
— Пришел с ней! Но, отец, ты говорил, он был бродягой, и… о, ну же, расскажи мне, что здесь за тайна! Вот я возвращаюсь домой и вижу, что в гостиной у отца лежит себе спокойно скрипка, которой, насколько я знаю, цены нет. В любом случае, я уверен, ее цена измеряется в тысячах, а не в сотнях. А ты с тем же спокойствием говоришь, что ею владеет мальчик, который, можно не сомневаться, вряд ли способен верно сыграть шестнадцатую, не говоря уже о том, чтобы оценить свою игру, и который, по твоим же словам, всего лишь…
Взметнувшаяся вверх рука отца остановила Джона Холли, и слова замерли у него на губах. Он обернулся и увидел в дверях самого Давида.
— Заходи, Давид, — тихо сказал Симеон. — Мой сын хочет послушать, как ты играешь. Мне кажется, он еще не слышал.
И снова в лице Симеона Холли промелькнуло что-то, явно напоминающее веселье.
С видимой неохотой Джон Холли передал скрипку мальчику. На лице его отражалось предчувствие неминуемой муки. Но, словно вынужденный задать вопрос, он все же осведомился:
— Мальчик, где ты взял эту