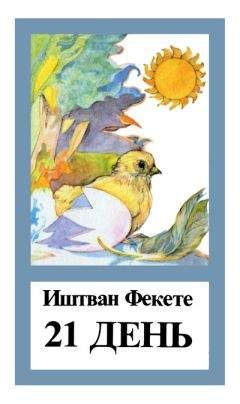Я вертел в руках соблазнительную коробочку. Бабушка перехватила мой жадный взгляд.
— Тебе тоже перепадет, а эти леденцы я посылаю Петеру. Вместе с коробкой. Ясно?
— Да, бабушка! — испуганно отозвался я, потому что старческие глаза смотрели на меня с несвойственной им неколебимой строгостью.
— И не вздумай обмануть: я потом спрошу у него.
— Бабушка, Петер — больной?
— Никакой он не больной, просто кашляет, и все. Со временем это пройдет. Но ты никогда не пей с ним из одной посуды, обещай мне!.. И еще обещай не проговориться о том, что я тебе это сказала…
— Я не проговорюсь, бабушка.
— Если любишь меня и любишь Петера…
— Вот ей-богу не проговорюсь, — прочувствованно божился я, поняв, что бабушка говорит это неспроста. А кроме того, моя любовь к ней и к Петеру была вполне искренней.
— Не божись, я и без того знаю, что ты любишь свою старенькую бабушку.
Мы успели пообедать, а этот разговор все не выходил у меня из головы. Я чувствовал, что таинственные недомолвки насчет Петера выстраиваются в один ряд с другими загадочными вещами, о которых говорить запрещено.
Петера я любил все душой, и у меня не было от него секретов, но теперь, когда его болезнь встала молчаливой тайной между нами, это как бы еще прочнее оградило и чердачные тайны; ведь единственный человек, которому я когда-нибудь их поведаю — как я в то время намеревался — будет Петер. Но я не сказал ему тогда, а впоследствии у меня уже не было такой возможности: через несколько лет чахотка унесла его. Правда, к тому времени мы уже переселились в город, и о Петере я знал всего лишь, что несмотря на бедность, он был зачислен в гимназию и блистал отличными успехами, когда я столь же блистательно провалился в другой гимназии. Конечно, я оплакал Петера, но пришлось оплакивать и другие потери. Сперва — нашего священника, который неожиданно скончался дома от мучительной болезни, затем — дядюшку Гашпара, который умер от голода во французском плену. Мне тогда не верилось, что такое возможно, ведь у нас в селе тоже находились военнопленные, но они только толстели на деревенских харчах, потому что крестьяне сочли бы позором морить пленного голодом… И лишь гораздо позднее, когда я прочел роман Аладара Кунца «Черный монастырь» о злоключениях военнопленных во французских лагерях, мне пришлось поверить…
Я не люблю вспоминать о тех временах, тем более, что мой замысел — рассказать о светлых мечтах, о тишине и одиночестве, словом, о той мирной поре, когда вряд ли кто-либо мог себе представить, во что способна превратить война человека, народ, целую страну.
А тогда для нас царил мир, Великий Мир. Представления о войне у людей были весьма своеобразные. Правда, в свое время мы потеряли отца нации — Кошута, но зато всем были ясны славные цели его борьбы. При упоминании о ней каждому приходили на ум имена национальных героев, боевые медали, короткие гусарские атаки, и в ослепительном свете этой былой славы никому не дано было прозреть невероятные бедствия, моральное падение и прочие страшные последствия войны подлинной.
А я и подавно был далек от таких мыслей в тот дивный летний день, когда мир обнимал наш край подобно любящей плодовитой матери, и все мои помыслы были сосредоточены на одном: проникнуть на чердак и открыть шкатулку.
К сожалению, это мое намерение столкнулось с некоторыми препятствиями. Но разве можно было подумать, что средь ясного и мирного дня, после сытного обеда вдруг ударит молния и поразит безмятежные ребяческие планы!..
А удар последовал, причем без каких бы то ни было предшествующих событий.
Мы покончили с голубцами и готовились перейти к послеобеденному отдыху, когда отец вдруг хлопнул себя по лбу:
— Фу ты, совсем запамятовал!.. — С этими словами он встал из-за стола и прошел в комнату, потому что обедали мы на террасе.
Никто из нас не придал значения его словам: ну, подумаешь, вспомнил человек о каком-то незавершенном деле… Однако отец и не собирался заниматься собственными делами; он тотчас же вернулся на террасу и положил передо мной какую-то красивую тетрадку.
— Пора заняться исправлением твоего почерка. Ну-ка, открой.
Я открыл тетрадь: это были прописи для чистописания. На самой первой строке сверху поистине каллиграфическим почерком было выведено:
«Обилен рыбой Балатон, вином богата Бадачонь…».
«Пропади оно пропадом, все это изобилие», — подумал я.
— Каждый день будешь писать по странице!
— Хорошо, — пролепетал я, в душе еще раз присовокупив вышеупомянутое пожелание. И все же я вынужден был признать справедливость отцовского требования, ведь в применении к моему почерку даже эпитет «скверный» показался бы хвалебным.
Итак, в критическом отношении к самому себе у меня недостатка не было, беда заключалась в другом. Естественно было предположить, что выполнение урока я непременно постараюсь оттянуть до вечера, и гнет этой ежевечерней обязанности способен будет отравить мне весь день. Вели отец мне сей момент, не откладывая, исписать всю тетрадку, я бы сел немедля, лишь бы окончательно разделаться с этой обузой. Но перспектива каждый вечер ложиться и поутру вставать с мыслью о ждущей тебя странице попросту портила мне все каникулы. Впрочем, что тут поделаешь?
— Сядешь, сынок, с самого утра и напишешь, — сказала бабушка, — а там гуляй без забот, без печалей.
— Хорошо, — поддался я бабушкиному утешению.
— Всех дел-то на несколько минут, — добавила мама.
— Ну уж нет! — вмешался отец. — Смысл не в том, чтобы наспех настрочить каракули! Надо писать как положено: медленно и красиво!
— Да, папа, — сказал я и, прослезившись над своей мученической участью, ушел из-за стола. Мне заранее было известно, что мама сейчас выступит против «притеснения ребенка», отец будет неколебимо стоять на своем, бабушке в конце концов удастся примирить их, но мне это уже не поможет.
Я улегся на старый диван, как святой — на возженный костер, и от горя сладко заснул.
Меня разбудила бабушка, которая ходила взад-вперед по комнате и разговаривала сама с собой. Первой моей мыслью были прописи, и мир померк передо мною.
— Никак не могу уснуть, — пожаловался я. — И голова болит.
Бабушка уставилась на меня, как на пустое место.
— Ты что-то сказал, сынок?
— Не спится мне…
— Да ведь ты проспал целый час! В твоем возрасте этого вполне достаточно.
— И голова болит…
— Поболит и пройдет. Должно быть, переел за обедом.
На этом разговор оборвался, и бабушка смотрела перед собой, словно надеясь отыскать утерянную нить беседы с самой собою.
— Бабушка, а эту страницу… ее уже сегодня надо написать?
— Не знаю, сынок. Спроси отца. Он ведь сказал: каждый день.
— Но сегодня-то только полдня осталось…
— Нечего со мной торговаться! — вспылила она. — Я не пойду вместо тебя спрашивать. — И с этими словами бабушка отправилась выяснить, нельзя ли начать упражнения по чистописанию с завтрашнего дня, учитывая, что сегодняшний день на исходе, а у ее драгоценного внука болит голова.
Я закрыл глаза, будто вся моя жизнь зависела от этой несчастной страницы.
— Не спи! — вошла в комнату бабушка. — Весь ум проспишь… А может, ты и впрямь захворал? — она приложила прохладную, сухую ладонь к моему лбу.
— Горячеватая… — сказала она. — Желудок у тебя не расстроился? Чистописанием займешься с завтрашнего дня.
Я схватил трогавшую мой лоб бабушкину руку и прижал ее к губам.
— Экий ты баламут! Не попадалось тебе письмо от тети Луйзи? Куда-то задевала и никак найти не могу.
— Вы же всегда в календарь кладете, бабушка.
— Как это я сама не вспомнила! Ты ведь не читаешь чужие письма? — она подозрительно смотрела на меня. — Это грех, сынок, пришлось бы тебе исповедоваться.
— С чего бы я стал их читать, бабушка?
— Да вот же оно! — бабушка вынула из календаря письмо. — Конверт даже не распечатан.
Бабушка так обрадовалась своей находке, что на меня перестала обращать внимание. А я, высвободившись из-под ярма чистописания хотя бы на сегодня, почувствовал себя вольной птицей: ведь завтрашний день — это такая дальняя даль…
Со двора донесся грохот повозки.
— Родители твои в Паталом укатили, — махнула тетушка Кати в сторону окна. — Отец наказал тебе абрикосов и в рот не брать, не то холеру подцепишь и будешь животом маяться.
— Так абрикосы еще не поспели, тетушка Кати.
— А я про что толкую!
И она опять принялась громыхать кастрюлями и горшками, давая понять, что в кухне мне делать нечего, а я с ощущением полной раскованности и радостного возбуждения устремился на чердак. Конечно, там некому было бы застать меня врасплох, и все же сам факт пребывания отца в доме сковал бы свободу моих действий.